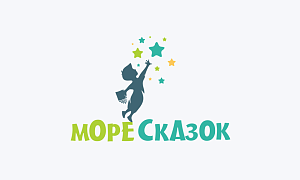Ты, ведь, знаешь скульптора Альфреда? Все мы знаем его; он получил золотую медаль, ездил в Италию и опять вернулся на родину; тогда он был молод, да он и теперь не стар, хотя, конечно, состарился на десять лет.
Вернувшись на родину, он поехал погостить в один из Зеландских городков. Весь город узнал о приезжем, узнал, кто он такой. Одно из богатейших семейств города дало в честь его большой вечер. Все, кто хоть мало-мальски чем-нибудь выдавался — деньгами или положением в свете — были в числе приглашённых. Вечер являлся настоящим событием; весь город знал о том и без барабанного оповещения. Мальчишки-мастеровые и другие ребятишки мелких горожан, а с ними кое-кто и из родителей, стояли пред освещёнными окнами и глядели на спущенные занавески. Ночной сторож мог вообразить, что на его улице праздник, такое тут собралось большое общество. Для зевак и стоянье на улице отзывалось удовольствием, а уж там в доме-то что было за веселье! Там, ведь, находился сам господин Альфред, скульптор!
Он говорил, рассказывал, а все остальные слушали его с удовольствием и чуть ли не с благоговением, особенно одна пожилая вдова-чиновница. Она напоминала собою в этом случае пропускную бумагу — жадно впивала в себя каждое слово и просила ещё и ещё. Невероятно восприимчивая была барыня, но и невежественная до невероятия; настоящий Каспар Гаузер в юбке.
— Вот Рим бы я посмотрела! — сказала она. — То-то, должно быть, чудесный город! Сколько туда наезжает иностранцев! Опишите нам Рим! Что видишь, въезжая в ворота?
— Ну, это не так-то легко описать! — ответил молодой скульптор. — Видите ли, там большая площадь, а посреди её возвышается обелиск; ему четыре тысячи лет.
— Вот так василиск! — проговорила барыня; она от роду не слыхивала слова обелиск. Многим, в том числе и самому скульптору, стало смешно, но усмешка его мгновенно испарилась, как только он увидал рядом с барыней пару больших синих, как море, очей. Очи принадлежали дочке барыни, а матушка такой дочки не может, конечно, быть глупою!..
Матушка была неисчерпаемым источником вопросов, дочка — прекрасною, молчаливою наядою источника. Как она была хороша! Скульптору легко было заглядеться на неё, но не заговорить с ней, — она совсем не говорила или, по крайней мере, очень мало!
— А у папы большая семья? — спросила барыня.
И молодой человек ответил, как следовало бы ответить при более умной постановке вопроса:
— Нет, он не из большой семьи.
— Я не про то! — возразила барыня. — Я спрашиваю, есть ли у него жена и дети?
— Папа не имеет права жениться! — ответил скульптор.
— Ну, это не в моём вкусе! — сказала она.
Конечно, и вопросы, и ответы могли бы быть поумнее, но если бы они не были так глупы, стала ли бы дочка выглядывать из-за плеча матери с такою трогательною улыбкою?
И господин Альфред продолжал рассказывать — рассказывал о ярких красках природы Италии, о синеющих горах, о голубом Средиземном море, о южном небе… Подобную синеву можно встретить здесь, на севере, разве только в очах северных дев! Сказано это было с ударением, но та, к кому относился намёк, не подала и вида, что поняла его. И это тоже вышло чудо, как хорошо!
— Италия! — вздыхали одни. — Путешествовать! — вздыхали другие. — Как хорошо, как хорошо!
— Вот, когда я выиграю пятьдесят тысяч, — сказала вдова: — мы с дочкой поедем путешествовать! И вы, господин Альфред, с нами! Поедем втроём, да ещё прихватим с собою кое-кого из добрых друзей! — И она благосклонно подмигнула всем окружающим, так что каждый получал право надеяться, что именно его-то она и прихватит с собою. — Мы поедем в Италию, только не туда, где водятся разбойники. Будем держаться Рима, да больших дорог, где безопаснее.
Дочка слегка вздохнула. Что может заключаться в одном маленьком вздохе, или что можно вложить в него! Молодой человек вложил в этот вздох многое! Пара голубых очей осветили ему в этот вечер скрытые сокровища, богаче всех сокровищ Рима! И он оставил общество сам не свой, он… весь принадлежал красавице.
С тех пор дом вдовы, как видно, особенно полюбился господину Альфреду, скульптору; но видно было также, что он посещал его не ради самой мамаши, — хотя с нею только и вёл беседу — а ради дочки. Звали её Кала; то есть, собственно говоря, её звали Карен-Малена, а уж из этих двух имён сделали одно — Кала. Как она была хороша! «Только немножко вялая» — говорили про неё; она таки любила по утрам понежиться в постели.
— Так уж она привыкла с детства! — говорила мамаша. — Она у меня балованное дитя, а такие легко утомляются. Правда, она любит полежать в постели, зато какие у неё ясные глазки!
И что за сила была в этих ясных, синих, как море, тихих и глубоких глазах! Наш скульптор и утонул в их глубине. Он говорил, рассказывал, а матушка расспрашивала с такою же живостью и развязностью, как и в первый раз. Ну, да и то сказать, послушать рассказы господина Альфреда было настоящим удовольствием. Он рассказывал о Неаполе, о восхождениях на Везувий и показывал раскрашенные картинки, на которых были изображены различные извержения Везувия. Вдова ни о чём таком сроду не слыхивала, ничего такого ей и в голову не приходило.
— Господи помилуй! — сказала она. — Вот так огнедышащие горы! А вреда от них не бывает?
— Как же! Раз погибли целых два города: Геркуланум и Помпея!
— Ах, несчастные люди! И вы сами всё это видели?
— Нет, извержений, что изображены на этих картинках, я не видал, но вот, я покажу вам мой собственный набросок одного извержения, которое было при мне.
И он вынул карандашевый набросок, а мамаша, насмотревшись на ярко-раскрашенные картинки, удивленно воскликнула:
— Так при вас огонь был белый!
Уважение господина Альфреда к мамаше пережило критический момент, но присутствие Калы скоро придало сказанному иную окраску, — он сообразил, что матушка её просто не обладает «глазом», чутьём красок, вот и всё! Зато она обладала лучшим, прекраснейшим сокровищем, Калою.
И вот, Альфред обручился с Калою; этого и следовало ожидать. О помолвке было оповещено в местной газете. Мамаша достала себе тридцать нумеров, вырезала печатное оповещение и разослала его в письмах друзьям и знакомым. Жених с невестой были счастливы, мамаша тоже; она, по её словам, как будто роднилась с самим Торвальдсеном!
— Вы, ведь, его преемник!
И Альфред нашёл, что она сказала довольно умную вещь. Кала не говорила ничего, но глаза её сияли, улыбка не сходила с уст, каждое движение дышало пленительною грацией. Как она была хороша, как хороша!..
Альфред вылепил бюсты Калы и мамаши. Они сидели перед ним и смотрели, как он мял и сглаживал мягкую глину.
— Это вы ради нас взялись сами за эту грубую работу! — сказала мамаша. — Пусть бы мальчик мял глину!
— Нет, мне необходимо лепить самому! — сказал он.
— Ну, да, ведь, вы всегда так любезны! — сказала матушка, а дочка тихонько пожала ему руку, запачканную в глине.
Во время работы Альфред выяснял им красоты природы и всего мироздания, превосходство живого создания перед мёртвым, растения перед минералом, животного перед растением, человека перед животным; объяснял, что скульптор воплощает высшее проявление красоты в земных образах.
Кала молчала, убаюканная его речами, а мамаша изрекла:
— Трудно, знаете, уследить за вашими словами! Но хоть я и медленно соображаю, а мысли так и жужжат у меня в голове, я всё-таки держу их крепко.
И его тоже крепко держала красота; она наполняла все его помыслы, завладела им всецело. Красотой дышало всё существо Калы — и глаза, и ротик, даже каждое движение пальчиков. Всё это было по части скульптора, и он говорил только о красавице, думал только о ней; оба они составляли теперь одно, поэтому много говорила и она, раз говорил много он.
Так прошёл день помолвки, затем настал и день свадьбы: явились подруги невесты, пошли подарки, о которых было упомянуто в поздравительных речах, словом — всё как водится.
Мамаша поместила за свадебным столом, в качестве почётного гостя, бюст Торвальдсена в шлафроке, — это была её собственная идея. Пели заздравные песни, осушали заздравные тосты, весёлая была свадьба и чудесная парочка! «Пигмалион обрёл свою Галатею» — говорилось в одной из песен.
— Ну, это что-то из мифологии! — сказала мамаша.
На другой день молодая чета отправилась в Копенгаген; мамаша с ними — взять на себя грубую часть семейной жизни, хозяйство. Кала пусть живёт, как в кукольном домике! Всё так чисто, ново, уютно! Ну, вот, наконец, все трое и сидели в своём домике; Альфред, тот сидел, по пословице, «словно епископ в гусином гнезде».
Его околдовала красота форм, он глядел только на футляр, а не на то, что в нём, а это большой промах, особенно, если дело идёт о браке! Износится футляр, сотрётся позолота, и пожалеешь о покупке. Очень неприятно заметить в гостях, что у тебя оторвались пуговицы у подтяжек, что пряжки ненадёжны, что их совсем нет, но ещё неприятнее замечать, что жена твоя и тёща говорят глупости, и не быть уверенным, что всегда найдёшь случай затушевать глупость остроумною шуткой.
Часто молодая чета сидела рука в руку; он говорил, она изредка роняла слово, — тот же тон, те же два, три мелодичных звука… София, подруга новобрачной, вносила с собою в дом освежающую струю воздуха.
София красотою не отличалась, но и особенных физических недостатков не имела. Правда, она была слегка кривобока, по словам Калы, но это было заметно лишь на глаз подруги. София была девушка умная, но ей и в голову не приходило, что она может стать «опасною». Она вносила в кукольный домик струю свежего воздуха, а здесь таки чувствовался в нём недостаток. Все понимали это, всем хотелось проветриться, и решили проветриться: тёща и молодые новобрачные отправились в Италию.
***
— Слава Богу, вот мы и дома опять! — сказали мамаша и дочка, вернувшись через год, вместе с Альфредом, на родину.
— Ничего нет хорошего в путешествии! — говорила мамаша. — Даже скучно! Извините за откровенность! Я просто соскучилась, хоть со мною и были мои дети. И как это дорого, как дорого! Все-то галереи надо осмотреть, всё обегать! Нельзя же, — приедешь домой, спросят обо всём! И всё-таки, в конце концов, узнаешь, что самого-то лучшего и не видали! А эти бесконечные, вечные мадонны надоели мне, вот до чего!.. Право, того и гляди, сама станешь мадонной!
— А стол-то! — говорила Кала.
— Даже порядочного бульона не достанешь! — подхватывала мамаша. — Просто беда с их стряпнёй!
Кала была очень утомлена путешествием, сильно утомлена и — что хуже всего — долго не могла оправиться. София переселилась к ним совсем и была очень полезна в доме.
Мамаша отдавала Софии полную справедливость, — она была весьма сведующею в хозяйстве и в искусстве, во всём, отдаться чему она до сих пор не могла за неимением собственных средств. Вдобавок, она была девушка вполне порядочная, искренне преданная, что и доказала во время болезни и полной беспомощности Калы.
Если футляр — всё, то футляр и должен быть прочен, не то беда; так оно и вышло — Кала умерла.
— Как она была хороша! — говорила мамаша. — Не то, что антики; те все с изъянами, а Кала была цельная! Вот это настоящая красота!
Альфред плакал, мамаша тоже; оба надели траур. Чёрный цвет особенно шёл к мамаше, и она носила его дольше, дольше и грустила, тем более, что грусть её нашла новую пищу: Альфред женился на Софии, не отличавшейся внешностью.
— Он ударился в крайность! — говорила мамаша. — От красоты перешёл к безобразию! И он мог забыть свою первую жену! Вот вам мужское постоянство! — Нет, мой муж был не таков! Он и умер-то прежде меня!
«Пигмалион обрёл свою Галатею», так говорилось в свадебной песне! — сказал Альфред. — Да, я, в самом деле, влюбился в прекрасную статую, которая ожила в моих объятиях. Но родственную душу, которую посылает нам само Небо, одного из тех ангелов, что живут одними чувствами, одними мыслями с нами, поддерживают нас в минуты слабости — я обрёл только теперь. Тебя, София! Ты явилась мне не в ореоле внешней красоты, но ты добра и красива даже более, чем это необходимо! Суть всё же остаётся сутью! Ты явилась и научила скульптора, что творение его только глина, прах, оболочка внутреннего ядра, которое нам следует искать прежде всего. Бедная Кала! Наша совместная жизнь прошла, как свадебная поездка. Там, где встречаются родственные души, мы, быть может, окажемся чуждыми друг другу.
— Ну, это нехорошо с твоей стороны говорить так! — возразила София. — Не по-христиански! Там, на небе, где не женятся и не выходят замуж, но где, как ты говоришь, встречаются родственные души, где всякая красота развёртывается в полном блеске, её душа, может быть, расцветёт так пышно, что совсем затмит меня, и ты опять воскликнешь, как в первом любовном порыве: «Как хороша! Как хороша!»