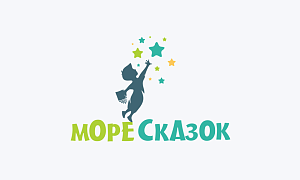Бедный студент Ансельм влюбляется в девушку-змейку Серпентину. Однако, чтобы добиться её руки, он должен угодить в услужении её отцу саламандру Линдхорсту. Ансельму предстоит пережить чары Вероники, которая стремиться отбить его у Серпентины, уменьшение и заточение в стеклянной банке из-за гнева Линдхорста, а также спасти будущего тестя от врагини-колдуньи. В конце концов Ансельм и Серпентина становятся счастливы. Ансельм получает от жены заслуженный золотой горшок с Древом жизни.
ВИГИЛИЯ ПЕРВАЯ
Злоключения студента Ансельма… — Пользительный табак конректора Паульмана и золотисто-зеленые змейки.
В день вознесения, часов около трех пополудни, чрез Черные ворота в Дрездене стремительно шел молодой человек и как раз попал в корзину с яблоками и пирожками, которыми торговала старая, безобразная женщина, — и попал столь удачно, что часть содержимого корзины была раздавлена, а все то, что благополучно избегло этой участи, разлетелось во все стороны, и уличные мальчишки радостно бросились на добычу, которую доставил им ловкий юноша! На крики старухи товарки ее оставили свои столы, за которыми торговали пирожками и водкой, окружили молодого человека и стали ругать его столь грубо и неистово, что он, онемев от досады и стыда, мог только вынуть свой маленький и не особенно полный кошелек, который старуха жадно схватила и быстро спрятала. Тогда расступился тесный кружок торговок; но когда молодой человек из него выскочил, старуха закричала ему вслед: «Убегай, чертов сын, чтоб тебя разнесло; попадешь под стекло, под стекло!..» В резком, пронзительном голосе этой бабы было что-то страшное, так что гуляющие с удивлением останавливались, и раздавшийся было сначала смех разом замолк. Студент Ансельм (молодой человек был именно он) хотя и вовсе не понял странных слов старухи, но почувствовал невольное содрогание и еще более ускорил свои шаги, чтобы избегнуть направленных на него взоров любопытной толпы. Теперь, пробиваясь сквозь поток нарядных горожан, он слышал повсюду говор: «Ах, бедный молодой человек! Ах, она проклятая баба!» Странным образом таинственные слова старухи дали смешному приключению некоторый трагический оборот, так что все смотрели с участием на человека, которого прежде совсем не замечали. Особы женского пола ввиду высокого роста юноши и его благообразного лица, выразительность которого усиливалась затаенным гневом, охотно извиняли его неловкость, а равно и его костюм, весьма далекий от всякой моды, а именно: его щучье-серый фрак был скроен таким образом, как будто портной, его работавший, только понаслышке знал о современных фасонах, а черные атласные, хорошо сохранившиеся брюки придавали всей фигуре какой-то магистерский стиль, которому совершенно не соответствовали походка и осанка.
Когда студент подошел к концу аллеи, ведущей к Линковым купальням, он почти задыхался. Он должен был замедлить шаг; он едва смел поднять глаза, потому что ему все еще представлялись яблоки и пирожки, танцующие вокруг него, и всякий дружелюбный взгляд проходящей девушки был для него лишь отражением злорадного смеха у Черных ворот. Так дошел он до входа в Линковы купальни; ряд празднично одетых людей непрерывно входил туда. Духовая музыка неслась изнутри, и все громче и громче становился шум веселых гостей. Бедный студент Ансельм чуть не заплакал, потому что и он хотел в день вознесения, который был для него всегда особенным праздником, — и он хотел принять участие в блаженствах линковского рая: да, он хотел даже довести дело до полпорции кофе с ромом и до бутылки двойного пива и, чтобы попировать настоящим манером, взял денег даже больше, чем следовало. И вот роковое столкновение с корзиной яблок лишило его всего, что при нем было. О кофе, о двойном пиве, о музыке, о созерцании нарядных девушек — словом, обо всех грезившихся ему наслаждениях нечего было и думать; он медленно прошел мимо и вступил на совершенно уединенную дорогу вдоль Эльбы. Он отыскал приятное местечко на траве под бузиною, выросшей из разрушенной стены, и, сев там, набил себе трубку пользительным табаком, подаренным ему его другом, конректором Паульманом. Около него плескались и шумели золотистые волны прекрасной Эльбы; за нею смело и гордо поднимал славный Дрезден свои белые башни к прозрачному своду, который опускался на цветущие луга и свежие зеленые рощи; а за ними, в глубоком сумраке, зубчатые горы давали знать о далекой Богемии. Но, мрачно взирая перед собою, студент Ансельм пускал в воздух дымные облака, и его досада наконец выразилась громко в следующих словах: «А ведь это верно, что я родился на свет для всевозможных испытаний и бедствий! Я уже не говорю о том, что я никогда не попадал в бобовые короли, что я ни разу по угадал верно в чет и нечет, что мои бутерброды всегда падают не землю намасленной стороной, — обо всех этих злополучиях я не стану и говорить; но не ужасная ли это судьба, что я, сделавшись наконец студентом назло всем чертям, должен все-таки быть и оставаться чучелом гороховым? Случалось ли мне надевать новый сюртук без того, чтобы сейчас же не сделать на нем скверного жирного пятна или не разорвать его о какой-нибудь проклятый, не к месту вбитый гвоздь? Кланялся ли я хоть раз какой-нибудь даме или какому-нибудь господину советнику без того, чтобы моя шляпа не летела черт знает куда или я сам не спотыкался на гладком полу и постыдно не шлепался? Не приходилось ли мне уже и в Галле каждый базарный день уплачивать на рынке определенную подать от трех до четырех грошей за разбитые горшки, потому что черт несет меня прямо на них, словно я полевая мышь? Приходил ли я хоть раз вовремя в университет или в какое-нибудь другое место? Напрасно выхожу я на полчаса раньше; только что стану я около дверей и соберусь взяться за звонок, как какой-нибудь дьявол выльет мне на голову умывальный таз, или я толкну изо всей силы какого-нибудь выходящего господина и вследствие этого не только опоздаю, но и ввяжусь в толпу неприятностей. Боже мой! Боже мой! Где вы, блаженные грезы о будущем счастье, когда я гордо мечтал достигнуть до звания коллежского секретаря. Ах, моя несчастная звезда возбудила против меня моих лучших покровителей. Я знаю, что тайный советник, которому меня рекомендовали, терпеть не может подстриженных волос; с великим трудом прикрепляет парикмахер косицу к моему затылку, но при первом поклоне несчастный снурок лопается, и веселый мопс, который меня обнюхивал, с торжеством подносит тайному советнику мою косичку. Я в ужасе устремляюсь за нею и падаю на стол, за которым он завтракал за работою; чашки, тарелки, чернильница, песочница летят со звоном, и поток шоколада и чернил изливается на только что оконченное донесение. «Вы, сударь, взбесились!» — рычит разгневанный тайный советник и выталкивает меня за дверь. Что пользы, что конректор Паульман обещал мне место писца? До этого не допустит моя несчастная звезда, которая всюду меня преследует. Ну, вот хоть сегодня. Хотел я отпраздновать светлый день вознесения как следует, в веселии сердца. Мог бы я, как и всякий другой гость в Линковых купальнях, восклицать с гордостью: «Человек, бутылку двойного пива, да лучшего, пожалуйста!» Я мог бы сидеть до позднего вечера, и притом вблизи какой-нибудь компании великолепно разряженных, прекрасных девушек. Я уж знаю, как бы я расхрабрился; я сделался бы совсем другим человеком, я даже дошел бы до того, что когда одна из них спросила бы: «Который теперь может быть час?» или: «Что это такое играют?» — я вскочил бы легко и прилично, не опрокинув своего стакана и не споткнувшись о лавку, в наклонном положении подвинулся бы шага на полтора вперед и сказал бы: «С вашего позволения, mademoiselle, это играют увертюру из «Девы Дуная», или: «Теперь, сейчас пробьет шесть часов». И мог бы хоть один человек на свете истолковать это в дурную сторону? Нет, говорю я, девушки переглянулись бы между собою с лукавою улыбкою, как это обыкновенно бывает каждый раз, как я решусь показать, что я тоже смыслю кой-что в легком светском тоне и умею обращаться с дамами. И вот черт понес меня на эту проклятую корзину с яблоками, и я теперь должен в уединении раскуривать свой пользительный…» Тут монолог студента Ансельма был прерван странным шелестом и шуршаньем, которые поднялись совсем около него в траве, но скоро переползли на ветви и листья бузины, раскинувшейся над его головою. То казалось, что это вечерний ветер шевелит листами; то — что это порхают туда и сюда птички в ветвях, задевая их своими крылышками. Вдруг раздался какой-то шепот и лепет, и цветы как будто зазвенели, точно хрустальные колокольчики. Ансельм слушал и слушал. И вот — он сам не знал, как этот шелест, и шепот, и звон превратились в тихие, едва слышные слова:
«Здесь и там, меж ветвей, по цветам, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся. Сестрица, сестрица! Качайся в сиянии! Скорее, скорее, и вверх и вниз, — солнце вечернее стреляет лучами, шуршит ветерок, шевелит листами, спадает роса, цветочки поют, шевелим язычками, поем мы с цветами, с ветвями, звездочки скоро заблещут, пора нам спускаться сюда и туда, мы вьемся, сплетаемся, кружимся, качаемся; сестрицы, скорей!»
И дальше текла дурманящая речь. Студент Ансельм думал: «Конечно, это не что иное, как вечерний ветер, но только он сегодня что-то изъясняется в очень понятных выражениях». Но в это мгновение раздался над его головой как будто трезвон ясных хрустальных колокольчиков; он посмотрел наверх и увидел трех блестящих зеленым золотом змеек, которые обвились вокруг ветвей и вытянули свои головки к заходящему солнцу. И снова послышались шепот, и лепет, и те же слова, и змейки скользили и вились кверху и книзу сквозь листья и ветви; и, когда они так быстро двигались, казалось, что куст сыплет тысячи изумрудных искр чрез свои темные листья. «Это заходящее солнце так играет в кусте», — подумал студент Ансельм; но вот снова зазвенели колокольчики, и Ансельм увидел, что одна змейка протянула свою головку прямо к нему. Как будто электрический удар прошел по всем его членам, он затрепетал в глубине души, неподвижно вперил взоры вверх, и два чудных темно-голубых глаза смотрели на него с невыразимым влечением, и неведомое доселе чувство высочайшего блаженства и глубочайшей скорби как бы силилось разорвать его грудь. И когда он, полный горячего желания, все смотрел в эти чудные глаза, сильнее зазвучали в грациозных аккордах хрустальные колокольчики, а искрящиеся изумруды посыпались на него и обвили его сверкающими золотыми нитями, порхая и играя вокруг него тысячами огоньков. Куст зашевелился и сказал: «Ты лежал в моей тени, мой аромат обвевал тебя, но ты не понимал меня. Аромат — это моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Вечерний ветерок пролетел мимо и шепнул: «Я веял около головы твоей, но ты не понимал меня; веяние есть моя речь, когда любовь воспламеняет меня». Солнечные лучи пробились сквозь облака, и сияние их будто горело в словах: «Я обливаю тебя горящим золотом, но ты не понимал меня; жар — моя речь, когда любовь меня воспламеняет».
И, все более и более утопая во взоре дивных глаз, жарче становилось влечение, пламенней желание. И вот зашевелилось и задвигалось все, как будто проснувшись к радостной жизни. Кругом благоухали цветы, и их аромат был точно чудное пение тысячи флейт, и золотые вечерние облака, проходя, уносили с собою отголоски этого пения в далекие страны. Но когда последний луч солнца быстро исчез за горами и сумерки набросили на землю свой покров, издалека раздался грубый густой голос: «Эй, эй, что там за толки, что там за шепот? Эй, эй, кто там ищет луча за горами? Довольно погрелись, довольно напелись! Эй, эй, сквозь кусты и траву, по траве, по воде вниз! Эй, эй, до-мо-о-о-й, до-мо-о-о-й!»
И голос исчез как будто в отголосках далекого грома; но хрустальные колокольчики оборвались резким диссонансом. Все замолкло, и Ансельм видел, как три змейки, сверкая и отсвечивая, проскользнули по траве к потоку; шурша и шелестя, бросились они в Эльбу, и над волнами, где они исчезли, с треском поднялся зеленый огонек, сделал дугу по направлению к городу и разлетелся.
ВИГИЛИЯ ВТОРАЯ
Как студент Ансельм был принят за пьяного и умоисступленного. — Поездка по Эльбе. — Бравурная ария капельмейстера Грауна. — Желудочный ликер Конради и бронзовая старуха с яблоками.
«А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала почтенная горожанка, которая, возвращаясь вместе со своим семейством с гулянья, остановилась и, скрестив руки на животе, стала созерцать безумные проделки студента Ансельма. Он обнял ствол бузинного дерева и, уткнув лицо в его ветви, кричал не переставая: «О, только раз еще сверкните и просияйте вы, милые золотые змейки, только раз еще дайте услышать ваш хрустальный голосок! Один только раз еще взгляните на меня вы, прелестные синие глазки, один только раз еще, а то я погибну от скорби и горячего желания!» И при этом он глубоко вздыхал, и жалостно охал, и от желания и нетерпения тряс бузинное дерево, которое вместо всякого ответа совсем глухо и невнятно шумело листьями и, по-видимому, порядком издевалось над горем студента Ансельма. «А господин-то, должно быть, не в своем уме!» — сказала горожанка, и Ансельм почувствовал себя так, как будто его разбудили от глубокого сна или внезапно облили ледяной водой. Теперь он снова ясно увидел, где он был, и сообразил, что его увлек странный призрак, доведший его даже до того, что он в полном одиночестве стал громко разговаривать. В смущении смотрел он на горожанку и наконец схватил упавшую на землю шляпу, чтобы поскорей уйти. Между тем отец семейства также приблизился и, спустив на траву ребенка, которого он нес на руках, с изумлением посмотрел на студента, опершись на свою палку. Теперь он поднял трубку и кисет с табаком, которые уронил студент, и, подавая ему то и другое, сказал:
— Не вопите, сударь, так ужасно в темноте и не беспокойте добрых людей: ведь все ваше горе в том, что вы слишком засмотрелись в стаканчик; так идите-ка лучше добром домой да на боковую. — Студент Ансельм весьма устыдился и испустил плачевное «ах». — Ну, ну, — продолжал горожанин, — не велика беда, со всяким случается, и в любезный праздник вознесения не грех пропустить лишнюю рюмочку. Бывают такие пассажи и с людьми божьими — ведь вы, сударь, кандидат богословия. Но, с вашего позволения, я набью себе трубочку вашим табаком, а то мой-то весь вышел.
Студент Ансельм собирался уже спрятать в карман трубку и кисет, но горожанин стал медленно и осторожно выбивать золу из своей трубки и потом столь же медленно набивать ее пользительным табаком. В это время подошли несколько девушек; они перешептывались с горожанкой и хихикали между собой, поглядывая на Ансельма. Ему казалось, что он стоит на острых шипах и раскаленных иглах. Только что он получил трубку и кисет, как бросился бежать оттуда, будто его пришпоривали. Все чудесное, что он видел, совершенно исчезло из его памяти, и он сознавал только, что громко болтал под бузиной всякую чепуху, а это было для него тем невыносимее, что он искони питал глубокое отвращение к людям, разговаривающим сами с собою. «Сатана болтает их устами», — говорил ректор, и он верил, что это так. Быть принятым за напившегося в праздник кандидата богословия — эта мысль была нестерпима. Он хотел уже завернуть в аллею тополей у Козельского сада, как услышал сзади себя голос: «Господин Апсельм, господин Ансельм! Скажите, ради бога, куда это вы бежите с такой поспешностью?» Студент остановился как вкопанный, в убеждении, что над ним непременно разразится какое-нибудь новое несчастье. Снова послышался голос: «Господин Ансельм, идите же назад. Мы ждем вас у реки!» Тут только студент понял, что это звал его друг, конректор Паульман; он пошел назад к Эльбе и увидел конректора с обеими его дочерьми и с регистратором Геербрандом; они собирались сесть в лодку. Конректор Паульман пригласил студента проехаться с ними по Эльбе, а затем провести вечер у него в доме в Пирнаском предместье. Студент Ансельм охотно принял приглашение, думая этим избегнуть злой судьбы, которая в этот день над ним тяготела. Когда они плыли по реке, случилось, что на том берегу, у Антонского сада, пускали фейерверк. Шурша и шипя, взлетали вверх ракеты, и светящиеся звезды разбивались в воздухе и брызгали тысячью потрескивающих лучей и огней. Студент Ансельм сидел углубленный в себя около гребца; по когда он увидел в воде отражение летавших в воздухе искр и огней, ему почудилось, что это золотые змейки пробегают по реке. Все странное, что он видел под бузиною, снова ожило в его чувствах и мыслях, и снова овладело им невыразимое томление, пламенное желание, которое там потрясло его грудь в судорожном скорбном восторге. «Ах, если бы это были вы, золотые змейки, ах! пойте же, пойте! В вашем пении снова явятся милые прелестные синие глазки, — ах, не здесь ли вы под волнами?» Так восклицал студент Ансельм и сделал при этом сильное движение, как будто хотел броситься из лодки в воду.
— Вы, сударь, взбесились! — закричал гребец и поймал его за борт фрака. Сидевшие около пего девушки испустили крики ужаса и бросились на другой конец лодки; регистратор Геербранд шепнул что-то на ухо конректору Паульману, из ответа которого студент Ансельм понял только слова: «Подобные припадки еще не замечались». Тотчас после этого конректор пересел к студенту Ансельму и, взяв его руку, сказал с серьезной и важной начальнической миной:
— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?
Студент Ансельм чуть не лишился чувств, потому что в его душе поднялась безумная борьба, которую он напрасно хотел усмирить. Он, разумеется, видел теперь ясно, что то, что он принимал за сияние золотых змеек, было лишь отражением фейерверка у Антонского сада, но тем не менее какое-то неведомое чувство — он сам не знал, было ли это блаженство, была ли это скорбь, — судорожно сжимало его грудь; и когда гребец ударял веслом по воде, так что она, как бы в гневе крутясь, плескала и шумела, ему слышались в этом шуме тайный шепот и лепет: «Ансельм, Ансельм! Разве ты не видишь, как мы все плывем перед тобой? Сестрица смотрит на тебя — верь, верь, верь в нас!» И ему казалось, что он видит в отражении три зелено-огненные полоски. Но когда он затем с тоскою всматривался в воду, не выглянут ли оттуда прелестные глазки, он убеждался, что это сияние происходит единственно от освещенных окон ближних домов. И так сидел он безмолвно, внутренне борясь. Но конректор Паульман еще резче повторил:
— Как вы себя чувствуете, господин Ансельм?
И в совершенном малодушии студент отвечал:
— Ах, любезный господин конректор, если бы вы знали, какие удивительные вещи пригрезились мне наяву, с открытыми глазами, под бузинным деревом, у стены Линковского сада, вы, конечно, извинили бы, что я, так сказать, в исступлении…
— Эй, эй, господин Ансельм! — прервал его конректор, — я всегда считал вас за солидного молодого человека, но грезить, грезить с открытыми глазами и потом вдруг желать прыгнуть в воду, это, извините вы меня, возможно только для умалишенных или дураков!
Студент Ансельм был весьма огорчен жестокою речью своего друга, но тут вмешалась старшая дочь Паульмана Вероника, хорошенькая цветущая девушка шестнадцати лет.
— Но, милый папа, — сказала она, — с господином Ансельмом, верно, случилось что-нибудь особенное, и он, может быть, только думает, что это было наяву, а в самом деле он спал под бузиною, и ему приснился какой-нибудь вздор, который и остался у него в голове.
— И сверх того, любезная барышня, почтенный конректор! — так вступил в беседу регистратор Геербранд, — разве нельзя наяву погрузиться в некоторое сонное состояние? Со мною самим однажды случилось нечто подобное после обеда за кофе, а именно: в этом состоянии апатии, которое, собственно, и есть настоящий момент телесного и духовного пищеварения, мне совершенно ясно, как бы по вдохновению, представилось место, где находился один потерянный документ; а то еще вчера я с открытыми глазами увидел один великолепный латинский фрагмент, пляшущий передо мною.
— Ах, почтенный господин регистратор, — возразил конректор Паульман, — вы всегда имели некоторую склонность к поэзии, а с этим легко впасть в фантастическое и романическое.
Но студенту Ансельму было приятно, что за него заступились и вывели его из крайне печального положения — слыть за пьяного или сумасшедшего; и хотя сделалось уже довольно темно, но ему показалось, что он в первый раз заметил, что у Вероники прекрасные синие глаза, причем ему, однако, не пришли на мысль те чудные глаза, которые он видел в кусте бузины. Вообще для него опять разом исчезло все приключение под бузиною; он чувствовал себя легко и радостно и дошел до того в своей смелости, что при выходе из лодки подал руку своей заступнице Веронике и довел ее до дому с такою ловкостью и так счастливо, что только всего один раз поскользнулся, и так как это было единственное грязное место на всей дороге — лишь немного забрызгал белое платье Вероники. От конректора Паульмана не ускользнула счастливая перемена в студенте Ансельме; он снова почувствовал к нему расположение и попросил извинения в своих прежних жестких словах.
— Да, — прибавил он, — бывают частые примеры, что некие фантазмы являются человеку и немало его беспокоят и мучат; но это есть телесная болезнь, и против нее весьма помогают пиявки, которые должно ставить, с позволения сказать, к заду, как доказано одним знаменитым уже умершим ученым.
Студент Ансельм теперь уже и сам не знал, был ли он пьян, помешан или болен, но, во всяком случае, пиявки казались ему совершенно излишними, так как прежние его фантазмы совершенно исчезли и он чувствовал себя тем более веселым, чем более ему удавалось оказывать различные любезности хорошенькой Веронике. По обыкновению, после скромного ужина занялись музыкой; студент Ансельм должен был сесть за фортепьяно, и Вероника спела своим чистым, звонким голосом.
— Mademoiselle, — сказал регистратор Геербранд, — у вас голосок как хрустальный колокольчик!
— Ну, это уж нет! — вдруг вырвалось у студента Ансельма, — он сам не знал как, — и все посмотрели на него в изумлении и смущении. — Хрустальные колокольчики звенят в бузинных деревьях удивительно, удивительно! — пробормотал студент Ансельм вполголоса. Тут Вероника положила свою руку на его плечо и сказала:
— Что это вы такое говорите, господин Ансельм?
Студент тотчас же опять повеселел и начал играть. Кон-ректор Паульман посмотрел на него мрачно, но регистратор Геербранд положил ноты на пюпитр и восхитительно спел бравурную арию капельмейстера Грауна. Студент Ансельм аккомпанировал еще много раз, а фугированный дуэт, который он исполнил с Вероникой и который был сочинен самим конректором Паульманом, привел всех в самое радостное настроение. Было уже довольно поздно, и регистратор Геербранд взялся за шляпу и палку, но тут конректор Паульман подошел к нему с таинственным видом и сказал:
— Ну-с, не хотите ли вы теперь сами, почтенный регистратор, господину Ансельму… ну, о чем мы с вами прежде говорили?
— С величайшим удовольствием, — отвечал регистратор, и, когда все сели в кружок, он начал следующую речь: — Здесь, у нас в городе, есть один замечательный старый чудак; говорят, он занимается всякими тайными науками; но как, собственно говоря, таковых совсем не существует, то я и считаю его просто за ученого архивариуса, а вместе с тем, пожалуй, и экспериментирующего химика. Я говорю не о ком другом, как о нашем тайном архивариусе Линдгорсте. Он живет, как вы знаете, уединенно, в своем отдаленном старом доме, и в свободное от службы время его можно всегда найти в его библиотеке или в химической лаборатории, куда он, впрочем, никого не впускает. Кроме множества редких книг, он владеет известным числом рукописей арабских, коптских, а также и таких, которые написаны какими-то странными знаками, не принадлежащими ни одному из известных языков. Он желает, чтоб эти последние были списаны искусным образом, а для этого он нуждается в человеке, умеющем рисовать пером, чтобы с величайшей точностью и верностью, и притом при помощи туши, перенести на пергамент все эти знаки. Он заставляет работать в особой комнате своего дома, под собственным надзором, уплачивает, кроме стола во время работы, по специес-талеру за каждый день и обещает еще значительный подарок по счастливом окончании всей работы. Время работы ежедневно от двенадцати до шести часов. Один час — от трех до четырех — на отдых и закуску. Так как он уже имел неудачный опыт с несколькими молодыми людьми, то и обратился наконец ко мне, чтобы я ему указал искусного рисовальщика; тогда я подумал о вас, любезный господин Ансельм, так как я знаю, что вы хорошо пишете, а также очень мило и чисто рисуете пером. Поэтому, если вы хотите в эти тяжелые времена и до вашего будущего назначения зарабатывать по специес-талеру в день и получить еще подарок сверх того, то потрудитесь завтра ровно в двенадцать часов явиться к господину архивариусу, жилище которого вам легко будет узнать. Но берегитесь всякого чернильного пятна: если вы его сделаете на копии, то вас заставят без милосердия начинать сначала; если же вы запачкаете оригинал, то господин архивариус в состоянии выбросить вас из окошка, потому что это человек сердитый.
Студент Ансельм был искренне рад предложению регистратора Геербранда, потому что он не только хорошо писал и рисовал пером; его настоящая страсть была — копировать трудные каллиграфические работы; поэтому он поблагодарил своих покровителей в самых признательных выражениях и обещал не опоздать завтра к назначенному часу. Ночью студент Ансельм только и видел что светлые специес-талеры и слышал их приятный звон. Нельзя осуждать за это беднягу, который, будучи во многих надеждах обманут прихотями злой судьбы, должен беречь всякий геллер и отказываться от удовольствий, которых требует жизнерадостная юность. Уже рано утром собрал он вместе свои карандаши, перья и китайскую тушь; лучших материалов, думал он, не выдумает, конечно, и сам архивариус Линдгорст. Прежде всего осмотрел он и привел в порядок свои образцовые каллиграфические работы и рисунки, чтоб показать их архивариусу, как доказательство своей способности исполнить требуемое. Все шло благополучно казалось, им управляла особая счастливая звезда: галстук принял сразу надлежащее положение; ни один шов не лопнул; ни одна петля не оборвалась на черных шелковых чулках; вычищенная шляпа не упала лишний раз в пыль, — словом, ровно в половине двенадцатого часа студент Ансельм в своем щучье-сером фраке и черных атласных брюках, со свертком каллиграфических работ и рисунков в кармане, уже стоял на Замковой улице, в лавке Конради, где он выпил рюмку-другую лучшего желудочного ликера, ибо здесь, думал он, похлопывая по своему еще пустому карману, скоро зазвенят специес-талеры. Несмотря на длинную дорогу до той уединенной улицы, на которой находился старый дом архивариуса Линдгорста, студент Ансельм был у его дверей еще до двенадцати часов. Он остановился и рассматривал большой и красивый дверной молоток, прикрепленный к бронзовой фигуре. Но только что он хотел взяться за этот молоток при последнем звучном ударе башенных часов на Крестовой церкви, как вдруг бронзовое лицо искривилось и осклабилось в отвратительную улыбку и страшно засверкало лучами металлических глаз. Ах! Это была яблочная торговка от Черных ворот! Острые зубы застучали в растянутой пасти, и оттуда затрещало и заскрипело: «Дурррак! Дуррак! Дурррак! Удерррешь! Удерррешь! Дурррак!» Студент Ансельм в ужасе отшатнулся и хотел опереться на косяк двери, но рука его схватила и дернула шнурок звонка, и вот сильнее и сильнее зазвенело в трескучих диссонансах, и по всему пустому дому раздались насмешливые отголоски: «Быть тебе уж в стекле, в хрустале, быть в стекле!» Студента Ансельма охватил страх и лихорадочною дрожью прошел по всем его членам. Шнур звонка спустился вниз и оказался белою прозрачною исполинскою змеею, которая обвила и сдавила его, крепче и крепче затягивая свои узлы, так что хрупкие члены с треском ломались и кровь брызнула из жил, проникая в прозрачное тело змеи и окрашивая его в красный цвет. «Умертви меня, умертви меня!» — хотел он закричать, страшно испуганный, но его крик был только глухим хрипением. Змея подняла свою голову и положила свой длинный острый язык из раскаленного железа на грудь Ансельма; режущая боль разом оборвала пульс его жизни, и он потерял сознание. Когда он снова пришел в себя, он лежал в своей бедной постели, а перед ним стоял конректор Паульман и говорил:
— Но скажите же, ради бога, что это вы за нелепости такие делаете, любезный господин Ансельм?
ВИГИЛИЯ ТРЕТЬЯ
Известие о семье архивариуса Линдгорста. — Голубые глаза Вероники. — Регистратор Геербранд.
— Дух взирал на воды, и вот они заколыхались, и поднялись пенистыми волнами, и ринулись в бездну, которая разверзла свою черную пасть, чтобы с жадностью поглотить их. Как торжествующие победители, подняли гранитные скалы свои зубчатыми венцами украшенные головы и сомкнулись кругом, защищая долину, пока солнце не приняло ее в свое материнское лоно и не взлелеяло, и не согрело ее в пламенных объятиях своих лучей. Тогда пробудились от глубокого сна тысячи зародышей, дремавших под пустынным песком, и протянули к светлому лицу матери свои зеленые стебельки и листики, и, как смеющиеся дети в зеленой колыбели, покоились в своих чашечках нежные цветочки, пока и они не проснулись, разбуженные матерью, и не нарядились в лучистые одежды, которые она для них разрисовала тысячью красок. Но в середине долины был черный холм, который поднимался и опускался, как грудь человека, когда она вздымается пламенным желанием. Из бездны вырывались пары и, скучиваясь в огромные массы, враждебно стремились заслонить лицо матери; и она произвела бурный вихрь, который сокрушительно прошел через них, и когда чистый луч снова коснулся черного холма, он выпустил из себя в избытке восторга великолепную огненную лилию, которая открыла свои листья, как прекрасные уста, чтобы принять сладкие поцелуи матери. Тогда показалось в долине блестящее сияние: это был юноша Фосфор; огненная лилия увидала его и, охваченная горячею, томительною любовью, молила: «О, будь моим вечно, прекрасный юноша, потому что я люблю тебя и должна погибнуть, если ты меня покинешь!» И сказал юноша Фосфор: «Я хочу быть твоим, о прекрасная лилия; но тогда ты должна, как неблагодарное детище, бросить отца и мать, забыть своих подруг, ты захочешь тогда быть больше и могущественнее, чем все, что теперь здесь радуется наравне с тобою. Любовное томление, которое теперь благодетельно согревает все твое существо, будет, раздробясь на тысячи лучей, мучить и терзать тебя, потому что чувство родит чувство, и высочайшее блаженство, которое зажжет в тебе брошенная мною искра, станет безнадежною скорбью, в которой ты погибнешь, чтобы снова возродиться в ином образе. Эта искра — мысль!» — «Ах! — молила лилия, — но разве не могу я быть твоею в том пламени, которое теперь горит во мне? Разве я больше, чем теперь, буду любить тебя и разве смогу я, как теперь, смотреть на тебя, когда ты меня уничтожишь!» Тогда поцеловал ее юноша Фосфор, и, как бы пронзенная светом, вспыхнула она в ярком пламени, из него вышло новое существо, которое, быстро улетев из долины, понеслось по бесконечному пространству, не заботясь о прежних подругах и о возлюбленном юноше. А он стал оплакивать потерянную подругу, потому что и его привлекла в одинокую долину только бесконечная любовь к прекрасной лилии, и гранитные скалы склоняли свои головы, принимая участие в скорби юноши. Но одна скала открыла свое лоно, и из него вылетел с шумом черный крылатый дракон и сказал: «Братья мои металлы спят там внутри, но я всегда весел и бодр и хочу тебе помочь». Носясь вверх и вниз, дракон схватил наконец существо, порожденное огненной лилией, принес его на холм и охватил его своими крыльями; тогда оно опять стало лилией, но упорная мысль терзала ее, и любовь к юноше Фосфору стала острою болью, от которой кругом все цветочки, прежде так радовавшиеся ее взорам, поблекли и увяли, овеянные ядовитыми испарениями. Юноша Фосфор облекся в блестящее вооружение, игравшее тысячью разноцветных лучей, и сразился с драконом, который своими черными крылами ударял о панцирь, так что он громко звенел; от этого могучего звона снова ожили цветочки и стали порхать, как пестрые птички, вокруг дракона, которого силы наконец истощились, и, побежденный, он скрылся в глубине земли. Лилия была освобождена, юноша Фосфор обнял ее, полный пламенного желания небесной любви, и все цветы, птицы и даже высокие гранитные скалы в торжественном гимне провозгласили ее царицей долины.
— Но позвольте, все это только одна восточная напыщенность, почтеннейший господин архивариус, — сказал регистратор Геербранд, — а мы ведь вас просили рассказать нам, как вы это иногда делаете, что-нибудь из вашей в высшей степени замечательной жизни, какое-нибудь приключение из ваших странствий, и притом что-нибудь достоверное.
— Ну так что же? — возразил архивариус Линдгорст. — То, что я вам сейчас рассказал, есть самое достоверное изо всего, что я могу вам предложить, добрые люди, и в известном смысле оно относится и к моей жизни. Ибо я происхожу именно из той долины, и огненная лилия, ставшая под конец царицей, была моя пра-пра-пра-праба-бушка, так что я сам, собственно говоря, — принц.
Все разразились громким смехом.
— Да, смейтесь, — продолжал архивариус Линдгорст, — то, что я представил вам, пожалуй, в скудных чертах, может казаться вам бессмысленным и безумным, но тем не менее все это не только не нелепость, но даже и не аллегория, а чистая истина. Но если бы я знал, что чудесная любовная история, которой и я обязан своим происхождением, вам так мало понравится, я, конечно, сообщил бы вам скорее кое-какие новости, которые передал мне мой брат при вчерашнем посещении.
— Как, у вас есть брат, господин архивариус? Где же он? Где он живет? Также на королевской службе, или он, может быть, приватный ученый? — раздавались со всех сторон вопросы.
— Нет, — отвечал архивариус, холодно и спокойно нюхая табак, — он стал на дурную дорогу и пошел в драконы.
— Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус, — подхватил регистратор Геербранд, — в драконы?
«В драконы», — раздалось отовсюду, точно эхо.
— Да, в драконы, — продолжал архивариус Линдгорст, — это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно — всего триста восемьдесят пять лет тому назад, так что я еще ношу траур; он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы и поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом, так что наконец покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в кипарисовом лесу около Туниса, где он стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии, и ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут-то он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила.
Снова присутствующие разразились громким смехом, но у студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Линдгорста, чтобы не почувствовать какого-то, для него самого непонятного, содрогания. Особенно в сухом, металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Геербранд, собственно, и взял его с собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Линдгорста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо, по его глубочайшему убеждению, только счастливая случайность избавила его если не от смерти, то, по крайней мере, от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Паульман тотчас же призвал портшез и таким образом перенес его домой.
— Пусть обо мне думают что хотят, — сказал студент Ансельм, — пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалило зубы проклятое лицо той ведьмы от Черных ворот; что случилось потом — об этом я лучше не буду говорить; но, если бы я, очнувшись от своего обморока, увидал перед собою проклятую старуху с яблоками (потому что ведь это она хлопотала надо мною), со мною бы мгновенно сделался удар или я сошел бы с ума.
Никакие убеждения, никакие разумные представления конректора Паульмана и регистратора Геербранда не повели ни к чему, и даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевнобольным и стали подумывать о средствах развлечь его, а, по мнению регистратора Геербранда, самым лучшим было бы занятие у архивариуса Линдгорста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить как следует студента Ансельма с архивариусом, а так как Геербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его, регистратора, счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий, — что студент Ансельм и принял с благодарностью.
— Вы заслужите милость божью, любезный регистратор, если вы приведете молодого человека в рассудок, — заявил конректор Паульман.
— Милость божью! — повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка! И вот, когда архивариус Линдгорст со шляпою и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Геербранд быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал:
— Высокочтимый господин тайный архивариус, вот студент Ансельм, который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты.
— Это мне весьма и чрезвычайно приятно, — быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и, отстранив регистратора Геербранда и студента Ансельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом.
— Совсем чудной старик, — проговорил наконец регистратор Геербранд. «Чудной старик!» — пробормотал студент Ансельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую. Но все гости засмеялись и сказали:
— Архивариус был сегодня опять в своем особенном настроении; завтра он, наверно, будет тих и кроток и не промолвит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в дымные колечки из своей трубки; на это по надо обращать внимание!
«Это правда, — подумал студент Ансельм, — кто станет обращать внимание на такие вещи? Да и не сказал ли архивариус, что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его манускрипты? И потом, зачем же в самом деле регистратор Геербранд стал ему на дороге, как раз когда он хотел идти домой? Нет, нет, в сущности говоря, он милый человек, господин тайный архивариус Линдгорст, и удивительно щедр; чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же ровно в двенадцать часов пойду к нему, хотя бы против этого восстали тысячи бронзовых баб с яблоками!»
ВИГИЛИЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Меланхолия студента Ансельма. — Изумрудное зеркало. — Как архивариус Линдгорст улетел коршуном и студент Ансельм никого не встретил.
Спрошу я тебя самого, благосклонный читатель, не бывали ли в твоей жизни часы, дни и даже целые недели, когда все твои обыкновенные дела и занятия возбуждали в тебе мучительное неудовольствие, когда все то, что в другое время представлялось важным и значительным твоему чувству и мысли, вдруг начинало казаться пошлым и ничтожным? Ты не знаешь тогда сам, что делать и куда обратиться; твою грудь волнует темное чувство, что где-то и когда-то должно быть исполнено какое-то высокое, за круг всякого земного наслаждения переходящее желание, которое дух, словно робкое, в строгости воспитанное дитя, не решается высказать, и в этом томлении по чему-то неведомому, что, как благоухающая греза, всюду носится за тобою в прозрачных, от пристального взора расплывающихся образах, — в этом томлении ты становишься нем и глух ко всему, что тебя здесь окружает. С туманным взором, как безнадежно влюбленный, бродишь ты кругом, и все, о чем на разные лады хлопочут люди в своей пестрой толкотне, не возбуждает в тебе ни скорби, ни радости, как будто ты уже не принадлежишь к этому миру. Если ты когда-нибудь чувствовал себя так, благосклонный читатель, то ты по собственному опыту знаешь то состояние, в котором находился студент Ансельм. Вообще я весьма желаю, благосклонный читатель, чтобы мне и сейчас уже удалось совершенно живо представить твоим глазам студента Ансельма. Ибо, в самом деле, за те ночные бдения, во время которых я записываю его в высшей степени странную историю, мне придется еще рассказать так много чудесного, так много такого, что, подобно явившемуся привидению, отодвигает повседневную жизнь обыкновенных людей в некую туманную даль, что я боюсь, как бы ты не перестал под конец верить и в студента Ансельма, и в архивариуса Линдгорста и не возымел бы даже каких-нибудь несправедливых сомнений относительно конректора Паульмана и регистратора Геербранда, несмотря на то что уж эти-то два почтенных мужа и доселе еще обитают в Дрездене. Попробуй, благосклонный читатель, в том волшебном царстве, полном удивительных чудес, вызывающих могучими ударами величайшее блаженство и величайший ужас, где строгая богиня приподнимает свое покрывало, так что мы думаем видеть лицо ее, но часто улыбка сияет в строгом взоре, и она насмешливо дразнит нас всякими волшебными превращениями и играет с нами, как мать забавляется с любимыми детьми, — в этом царстве, которое дух часто открывает нам, по крайней мере во сне, — попробуй, говорю я, благосклонный читатель, узнать там давно знакомые лица и образы, окружающие тебя в обыкновенной или, как говорится, повседневной жизни, и ты поверишь, что это чудесное царство гораздо ближе к тебе, чем ты думаешь, чего именно я и желаю от всего сердца и ради чего, собственно, я и рассказываю тебе эту странную историю о студенте Ансельме. Итак, как сказано, студент Ансельм впал после вечера, когда он видел архивариуса Линдгорста, в мечтательную апатию, делавшую его нечувствительным ко всяким внешним прикосновениям обыкновенной жизни. Он чувствовал, как в глубине его существа шевелилось что-то неведомое и причиняло ему ту блаженную и томительную скорбь, которая обещает человеку другое, высшее бытие. Лучше всего ему было, когда он мог один бродить по лугам и рощам и, как бы оторвавшись ото всего, что приковывало его к жалкой жизни, мог находить самого себя в созерцании тех образов, которые поднимались из его внутренней глубины. И вот однажды случилось, что он, возвращаясь с далекой прогулки, проходил мимо того замечательного бузинного куста, под которым он, как бы под действием неких чар, видел так много чудесного: он почувствовал удивительное влечение к зеленому родному местечку на траве; но едва он на него сел, как все, что он тогда созерцал в небесном восторге и что как бы чуждою силою было вытеснено из его души, снова представилось ему в живейших красках, будто он это вторично видел. Даже еще яснее, чем тогда, стало для него, что прелестные синие глазки принадлежат золотисто-зеленой змейке, извивавшейся в середине бузинного дерева, и что в изгибах ее стройного тела должны были сверкать все те чудные хрустальные звуки, которые наполняли его блаженством и восторгом. И так же, как тогда, в день вознесения, обнял он бузинное дерево и стал кричать внутрь его ветвей: «Ах! еще раз только мелькни, и взвейся, и закачайся на ветвях, дорогая зеленая змейка, чтобы я мог увидеть тебя… Еще раз только взгляни на меня своими прелестными глазками!.. Ах! я люблю тебя и погибну от печали и скорби, если ты не вернешься!» Но все было тихо и глухо, и, как тогда, совершенно невнятно шумела бузина своими ветвями и листами. Однако студенту Ансельму казалось, что он теперь знает, что шевелится и движется внутри его, что так разрывает его грудь болью и бесконечным томлением. «Это то, — сказал он самому себе, — что я тебя всецело, всей душой, до смерти люблю, чудная золотая змейка; что я не могу без тебя жить и погибну в безнадежном страдании, если я не увижу тебя снова и не буду обладать тобою как возлюбленною моего сердца… Но я знаю, ты будешь моя, — и тогда исполнится все, что обещали мне дивные сны из другого, высшего мира». Итак, студент Ансельм каждый вечер, когда солнце рассыпало по верхушкам деревьев свои золотые искры, ходил под бузину и взывал из глубины души самым жалостным голосом к ветвям и листьям и звал дорогую возлюбленную, золотисто-зеленую змейку. Однажды, когда он, по обыкновению, предавался этому занятию, вдруг перед ним явился длинный, худой человек, завернутый в широкий светлосерый плащ, и, сверкая на него своими большими огненными глазами, закричал:
— Гей, гей! Что это там такое хныкает и визжит? Эй! эй! да это тот самый господин Ансельм, что хочет списывать мои манускрипты!
Студент Ансельм немало испугался этого могучего голоса, потому что он узнал в нем тот самый голос, который тогда, в день вознесения, неведомо откуда закричал: «Эй, эй! что там за шум, что там за толки?» — и так далее. От изумления и испуга он не мог произнести ни слова.
— Ну, что же с вами такое, господин Ансельм? — продолжал архивариус Линдгорст (человек в светло-сером плаще был не кто иной). — Чего вы хотите от бузинного дерева и почему вы не приходите ко мне, чтобы начать вашу работу?
И действительно, студент Ансельм не мог еще принудить себя снова посетить архивариуса в его доме, несмотря на свое мужественное решение в тот вечер в кофейне. Но в это мгновение, когда его прекрасные грозы были нарушены, и притом тем же самым враждебным голосом, который уже и тогда похитил у него возлюбленную, им овладело какое-то отчаяние, и он неистово разразился:
— Считайте меня хоть за сумасшедшего, господин архивариус, мне это совершенно все равно, но здесь, на этом дереве, я видел в вознесение золотисто-зеленую змейку, — ах! вечную возлюбленную моей души, и она говорила со мною чудными кристальными звуками; но вы, вы, господин архивариус, закричали и загремели так ужасно над водою.
— Неужели, мой милейший? — прервал его архивариус Линдгорст, нюхая табак с совершенно особенной улыбкой.
Студент Ансельм почувствовал, как его сердце облегчилось, едва только ему удалось заговорить о том удивительном приключении, и ему казалось, что он совершенно справедливо обвинял архивариуса, как будто это действительно он откуда-то гремел в тот вечер. Он собрался с духом и сказал:
— Ну, так я расскажу вам все роковое происшествие того вечера, а затем вы можете говорить, делать и думать обо мне все что угодно. — И он рассказал все удивительные события, начиная с той несчастной минуты, когда он толкнул яблочную корзину, и до исчезновения в воде трех золотых змеек, и как его потом все считали пьяным или сумасшедшим. — Все это, — заключил студент Ансельм, — я действительно видел, и глубоко в моей груди еще раздаются ясные отзвуки милых голосов, которые говорили со мною; это отнюдь не был сон, и, пока я не умру от любви и желания, я буду верить в золотисто-зеленых змеек, хотя я по вашей усмешке, почтенный господин архивариус, ясно вижу, что вы именно этих змеек считаете только произведением моего чересчур разгоряченного воображения.
— Нисколько, — возразил архивариус с величайшим спокойствием и хладнокровием, — золотисто-зеленые змейки, которых вы, господин Ансельм, видели в кусте бузины, были мои три дочери, и теперь совершенно ясно, что вы порядком-таки влюбились в синие глаза младшей, Серпентины. Я, впрочем, знал это еще тогда, в вознесенье, и так как мне дома за работой надоел их звон и шум, то я крикнул шалуньям, что пора возвращаться домой, так как солнце уже зашло и они довольно напелись и напились лучей.
Студент Ансельм принял это так, как будто ему только сказали в ясных словах то, что он уже давно сам чувствовал», и, хотя ему тотчас же показалось, что бузинный куст, стена и лужайка и все предметы кругом начали слегка вертеться, тем не менее он собрался с силами и хотел что-то сказать, но архивариус не дал ему говорить: быстро сняв с левой руки перчатку и поднеся к глазам студента перстень с драгоценным камнем, сверкавшим удивительными искрами и огнями, он сказал:
— Смотрите сюда, дорогой господин Ансельм, и то, что вы увидите, может доставить вам удовольствие.
Студент Ансельм посмотрел, и — о, чудо! — из драгоценного камня, как из горящего фокуса, выходили во все стороны лучи, которые, соединяясь, составляли блестящее хрустальное зеркало, а в этом зеркале, всячески извиваясь, то убегая друг от друга, то опять сплетаясь вместе, танцевали и прыгали три золотисто-зеленые змейки. И когда гибкие, тысячами искр сверкающие тела касались друг друга, тогда звучали дивные аккорды хрустальных колокольчиков и средняя змейка протягивала с тоскою и желанием свою головку и синие глаза говорили: «Знаешь ли ты меня? Веришь ли ты в меня, Ансельм? Только в вере есть любовь — можешь ли ты любить?»
— О Серпентина, Серпентина! — закричал студент Ансельм в безумном восторге; но архивариус Линдгорст быстро дунул на зеркало, лучи с электрическим треском опять вошли в фокус, и на руке сверкнул только маленький изумруд, на который архивариус натянул перчатку.
— Видели ли вы золотых змеек, господин Ансельм? — спросил архивариус Линдгорст.
— Боже мой! да, — отвечал тот, — и дорогую, милую Серпентину.
— Тише, — продолжал архивариус, — на нынешний день довольно. Впрочем, если вы решитесь у меня работать, вам достаточно часто можно будет видеть моих дочерей, или, лучше сказать, я буду доставлять вам это истинное удовольствие, если вы будете хорошо исполнять свою работу, то есть списывать с величайшей точностью и чистотою каждый знак. Но вы совсем не приходите ко мне, хотя регистратор Геербранд уверял, что вы непременно явитесь, и я напрасно прождал несколько дней.
Как только архивариус произнес имя Геербранда, студент Ансельм опять почувствовал, что он действительно студент Ансельм, а человек, перед ним стоящий, — архивариус Линдгорст. Равнодушный тон, которым говорил этот последний, в резком контрасте с теми чудесными явлениями, которые он вызывал как настоящий некромант, представлял собою нечто ужасное, что еще усиливалось пронзительным взглядом глаз, сверкавших из глубоких впадин худого морщинистого лица как будто из футляра, и нашего студента неудержимо охватило то же чувство жути, которое уже прежде овладело им в кофейне, когда архивариус рассказывал так много удивительного. С трудом пришел он в себя, и когда архивариус еще раз спросил:
— Ну, так почему же вы не пришли ко мне? — то он принудил себя рассказать все, что случилось с ним у дверей.
— Любезный господин Ансельм, — сказал архивариус, когда студент окончил свой рассказ, — любезный господин Ансельм, я очень хорошо знаю бабу с яблоками, о которой вы изволите говорить; эта фатальная тварь проделывает со мною всякие штуки, и, если она сделалась бронзовою, чтобы в качестве дверного молотка отпугивать от меня приятные мне визиты, — это в самом деле очень скверно, и этого нельзя терпеть. Не угодно ли вам, почтеннейший, когда вы придете завтра в двенадцать часов и опять заметите что-нибудь вроде оскаливания зубов и скрежетания, не угодно ли вам будет брызнуть ей в нос немножко вот этой жидкости, и тогда все будет как следует. А теперь — adieu, любезный господин Ансельм. Я хожу немного скоро и потому не приглашаю вас вернуться в город вместе со мной. Adieu, до свидания, завтра в двенадцать часов. — Архивариус отдал студенту Ансельму маленький пузырек с золотисто-желтою жидкостью и пошел так быстро, что в наступившем между тем глубоком сумраке казалось, что он более слетает, нежели сходит в долину. Он был уже вблизи Козельского сада, когда поднявшийся ветер раздвинул полы его широкого плаща, взвившиеся в воздух, так что студенту Ансельму, глядевшему с изумлением вслед архивариусу, представилось, будто большая птица раскрывает крылья для быстрого полета. В то время как студент Ансельм вперял таким образом свои взоры в сумрак, вдруг поднялся высоко на воздух с каркающим криком содой коршун, и Ансельм теперь ясно увидел, что большая колеблющаяся фигура, которую он все еще принимал за удалявшегося архивариуса, была именно этим коршуном, хотя он никак не мог понять, куда же это разом исчез архивариус. «Но, может быть, он и сам собственною особою и улетел в виде коршуна, этот господин архивариус Линдгорст, — сказал себе студент Ансельм, — потому что я теперь хорошо вижу и чувствую, что все эти непонятные образы из далекого волшебного мира, которые я прежде встречал только в особенных, удивительных сновидениях, перешли теперь в мою дневную бодрствующую жизнь и играют мною. Но будь что будет! Ты живешь и горишь в моей груди, прелестная, милая Серпентина! Только ты можешь утишить бесконечное томление, разрывающее мое сердце. Ах! когда я увижу твои прелестные глазки, милая, милая Серпентина?..» Так громко взывал студент Ансельм.
— Вот скверное, нехристианское имя, — проворчал около него глухим голосом какой-то возвращающийся с прогулки господин.
Студент Ансельм вовремя вспомнил, где он находится, и поспешил быстрыми шагами домой, думая про себя: «Вот несчастье-то будет, если мне встретится теперь конректор Паульман или регистратор Геербранд!» Но с ним не встретился ни тот, ни другой.
ВИГИЛИЯ ПЯТАЯ
Госпожа надворная советница Ансельм. — Cicero, De officiis[*]. Мартышки и прочая сволочь. — Старая Лиза. — Осеннее равноденствие.
— С Ансельмом ничего не поделаешь, — сказал конректор Паульман, — все мои добрые наставления, все мои увещания остаются бесплодными; он ничем не хочет заняться, хотя у него самые лучшие познания в науках, которые все-таки составляют основание всего.
[* Цицерон, О долге (лат.).]
Но регистратор Геербранд возразил, лукаво и таинственно улыбаясь:
— Дайте вы только Ансельму место и время, любезнейший конректор! Он субъект курьезный, но из него многое может выйти, и когда я говорю «многое», то это значит — коллежский асессор или даже надворный советник.
— Надворный? — начал было конректор в величайшем удивлении, и слово застряло у него в горло.
— Тише, тише, — продолжал регистратор Геербранд, — я знаю, что знаю! Уже два дня, как он сидит у архивариуса Линдгорста и списывает, и архивариус сказал мне вчера вечером в кофейне: «Вы рекомендовали мне славного человека, почтеннейший! Из него будет толк». И если вы теперь сообразите, какие у архивариуса связи, — те! те! — об этом мы поговорим через годик! — С этими словами регистратор вышел из комнаты с прежнею хитрою улыбкою, оставляя онемевшего от удивления и любопытства конректора неподвижно сидящим на своем стуле.
Но на Веронику этот разговор произвел совершенно особое впечатление. «Разве я не знала всегда, — думала она. — что господин Ансельм очень умный и милый молодой человек, из которого выйдет еще что-нибудь значительное? Только бы мне знать, действительно ли он расположен ко мне! Но разве в тот вечер, когда мы катались по Эльбе, он не пожал мне два раза руку? И разве во время дуэта он не смотрел на меня таким совершенно особенным взглядом, проникавшим до сердца? Да, да, он действительно любит меня, и я…» — Вероника предалась вполне, по обыкновению молодых девиц, сладким грезам о светлом будущем. Она была госпожой надворной советницей, жила в прекрасной квартире на Замковой улице, или на Новом рынке, или на Морицштрассе, шляпка новейшего фасона, новая турецкая шаль шли к ней превосходно, она завтракала в элегантном неглиже у окна, отдавая необходимые приказания кухарке: «Только, пожалуйста, не испортите этого блюда, это любимое кушанье господина надворного советника!» Мимоидущие франты украдкой поглядывают кверху, и она явственно слышит: «Что это за божественная женщина, надворная советница, и как удивительно к ней идет ее маленький чепчик!» Тайная советница Игрек присылает лакея спросить, не угодно ли будет сегодня госпоже надворной советнице поехать на Линковы купальни? «Кланяйтесь и благодарите, я очень сожалею, но я уже приглашена на вечер к президентше Те-цет». Тут возвращается надворный советник Ансельм, вышедший еще с утра по делам; он одет по последней моде. «Ба! вот уж и двенадцать. часов! — восклицает он, заводя золотые часы с репетицией и целуя молодую жену. — Как поживаешь, милая женушка, знаешь, что у меня для тебя есть», — продолжает он, лукаво вынимая из кармана пару великолепных новейшего фасона сережек, которые он и вдевает ей в уши вместо прежних.
— Ах, миленькие, чудесные сережки! — вскрикивает Вероника совершенно громко и, бросив работу, вскакивает со стула, чтобы в самом деле посмотреть в зеркале эти сережки.
— Что же это такое наконец будет? — сказал конректор Паульман, как раз углубившийся в чтение Cicero, De officiis и чуть не уронивший книгу. — И у тебя такие же припадки, как у Ансельма?
Но тут вошел в комнату сам Ансельм, который, против своего обыкновения, не показывался перед тем несколько дней, и Вероника с изумлением и страхом заметила, что все его существо как-то изменилось. С не свойственной ему определенностью заговорил он о новом направлении своей жизни, которое ему стало ясным, о возвышенных идеях, которые ему открылись и которые недоступны для многих. Конректор Паульман, вспомнив таинственные слова регистратора Геербранда, был еще более поражен и едва мог выговорить слово, как студент Ансельм, упомянув о спешной работе у архивариуса Линдгорста и поцеловав с изящной ловкостью руку Вероники, уже спустился по лестнице и исчез. «Это был уже надворный советник, — пробормотала Вероника, — и он поцеловал мне руку, не поскользнувшись при этом и не наступив мне на ногу, как бывало прежде. Как нежно он на меня посмотрел! В самом деле, он любит меня». Вероника снова предалась своим мечтам; но посреди приятных сцен из будущей домашней жизни госпожи надворной советницы теперь словно появился какой-то враждебный образ, который злобно смеялся и говорил: «Все это глупости и пошлости и к тому же неправда, потому что Ансельм никогда не будет надворным советником и твоим мужем; да он и не любит тебя, хотя у тебя голубые глаза, стройный стан и нежная рука». Тут как будто ледяной поток прошел в груди Вероники, уничтожил всю ту приятность, с которой она воображала себя в кружевном чепчике и изящных серьгах. Она чуть было не заплакала и громко проговорила:
— Ах, это правда, он меня не любит, и я никогда не буду надворной советницей!
— Романические бредни, романические бредни! — закричал конректор Паульман, взял шляпу и палку и сердито вышел вон.
«Этого еще недоставало», — вздохнула Вероника, и ей стало очень досадно на двенадцатилетнюю сестру, которая безучастно, сидя за пяльцами, продолжала свою работу. Между тем было уже почти три часа, — как раз время убирать комнату и готовить кофе, потому что барышни Остерс обещали прийти к своей подруге. Но из-за каждого шкафчика, который Вероника отодвигала, из-за нотных тетрадей, которые она брала с фортепьяно, из-за каждой чашки, из-за кофейника, который она вынимала из шкафа, отовсюду выскакивал тот образ, словно какая-нибудь ведьма, и насмешливо хихикал и щелкал тонкими, как у паука, пальцами и кричал: «Не будет он твоим мужем! Не будет он твоим мужем!» И потом, когда она все бросила и убежала на середину комнаты, выглянуло оно из-за печки, огромное, с длинным носом, и заворчало и задребезжало: «Не будет он твоим мужем!»
— Неужто ты ничего ни слышишь, ничего не видишь, сестра? — воскликнула Вероника, которая от страха и трепета не могла уж ни до чего дотронуться.
Френцхен встала совершенно серьезно и спокойно из-за своих пялец и сказала:
— Что это с тобою сегодня, сестра? Ты все бросаешь, все у тебя стучит и звенит, нужно тебе помочь.
Но тут со смехом вошли веселые девушки-гостьи, и в это мгновение Веронике вдруг стало ясно, что печку она принимала за человеческую фигуру, а скрип плохо притворенной заслонки — за враждебные слова. Однако, охваченная паническим страхом, она не могла оправиться так скоро, чтобы приятельницы не заметили ее необычайного напряжения, которое выдавало уже ее бледное и расстроенное лицо. Когда они, быстро прервав те веселые новости, которые собирались рассказать, стали допрашивать свою подругу, что с нею случилось, она должна была признаться, что перед тем она предалась совсем особенным мыслям и что вдруг, среди бела дня, ею овладела боязнь привидений, вообще ей не свойственная. И тут она так живо рассказала о том, как изо всех углов комнаты ее дразнил и издевался над нею маленький серый человечек, что барышни Остерс начали пугливо озираться но сторонам, и вскоре им стало жутко и как-то не по себе. В это время вошла Френцхен с дымящимся кофе, и все три девушки, быстро опомнившись, стали смеяться сами над своей глупостью. Анжелика — так называлась старшая Остерс — была помолвлена с одним офицером, который находился в армии и от которого так долго не было известий, что трудно было сомневаться в его смерти или, по крайней мере, в том, что он тяжело ранен. Это повергло ее в глубокое огорчение; но сегодня она была неудержимо весела, чему Вероника немало удивилась и откровенно ей это высказала.
— Милая моя, — сказала Анжелика, — ужели ты думаешь, что я не ношу всегда моего Виктора в моем сердце, в моих чувствах и мыслях? Но поэтому-то я так и весела, — ах, боже мой! — так счастлива, так блаженна всею душою! Ведь мой Виктор здоров, и я его скоро опять увижу ротмистром и с орденами, которые он заслужил своей безграничной храбростью. Сильная, но вовсе не опасная рана в правую руку от сабли неприятельского гусара мешает ему писать, да и постоянная перемена места, — так как он не хочет оставлять своего полка, — делает для него невозможным дать о себе известие; но сегодня вечером он получает отпуск для излечения. Завтра он уезжает сюда и, садясь в экипаж, узнает о своем производстве в ротмистры…
— Но, милая Анжелика, — прервала ее Вероника, — как же ты это все теперь уже знаешь?
— Не смейся надо мною, мой друг, — продолжала Анжелика, — да ты и не будешь смеяться, а то, пожалуй, тебе в наказание как раз выглянет маленький серый человечек оттуда, из-за зеркала. Как бы то ни было, но я никак не могу отделаться от веры во что-то таинственное, потому что это таинственное часто видимым и, можно сказать, осязательным образом вступало в мою жизнь. В особенности мне вовсе не представляется таким чудесным и невероятным, как это кажется многим другим, что могут существовать люди, обладающие особым даром ясновидения, который они умеют вызывать в себе им известными верными способами. Здесь у нас есть одна старуха, которая обладает этим даром в высшей степени. Она не гадает, как другие, по картам, по расплавленному свинцу или кофейной гуще, но после известных приготовлений, в которых принимает участие заинтересованное лицо, в гладко полированном металлическом зеркале появляется удивительная смесь разных фигур и образов, которые старуха объясняет и в которых черпает ответ на вопрос. Я была у нее вчера вечером и получила эти известия о моем Викторе, и я ни на минуту не сомневаюсь, что все это правда.
Рассказ Анжелики заронил в душу Вероники искру, которая скоро разгорелась в желание расспросить старуху об Ансельме и о своих надеждах. Она узнала, что старуху зовут фрау Рауэрин, что она живет в отдаленной улице у Озерных ворот, бывает наверное дома по вторникам, средам и пятницам от семи часов вечера и всю ночь до солнечного восхода и любит, чтоб приходили одни, без свидетелей. Была как раз среда, и Вероника решилась, под предлогом проводить своих гостей, пойти к старухе, что ей и удалось. Простившись у Эльбского моста с приятельницами, жившими в Новом городе, она поспешила к Озерным воротам и скоро очутилась в указанной ей пустынной узкой улице, а в конце ее увидала маленький красный домик, в котором, по описанию, должна была жить фрау Рауэрин. Она не могла отделаться от какого-то жуткого чувства, от какого-то внутреннего содрогания, когда остановилась перед дверью этого дома. Наконец, собравшись с духом, несмотря на внутреннее сопротивление, она дернула за звонок, после чего дверь отворилась, и через темные сени пробралась ощупью к лестнице, которая вела в верхний этаж, как описывала Анжелика.
— Не живет ли здесь фрау Рауэрин? — крикнула она в пустоту, так как никто не показывался; вместо ответа раздалось продолжительное звонкое мяуканье, и большой черный кот, выгибая спину и волнообразно вертя хвостом, с важностью прошел перед нею к комнатной двери, которая отворилась вслед за вторым мяуканьем.
— Ах, дочка, да ты уже здесь! Иди сюда, сюда! — так восклицала появившаяся на пороге фигура, вид которой приковал Веронику к земле. Длинная, худая, в черные лохмотья закутанная женщина! Когда она говорила, ее выдающийся острый подбородок трясся, беззубый рот, осененный сухим ястребиным носом, осклаблялся в улыбку и светящиеся кошачьи глаза бросали искры сквозь большие очки. Из-под пестрого, обернутого вокруг головы платка выглядывали черные щетинистые волосы и — чтобы сделать это гадкое лицо вполне отвратительным — два больших ожога перерезывали левую щеку до самого носа. У Вероники захватило дыхание, и крик, который должен был вырваться из сдавленной груди, перешел в глубокий вздох, когда костлявая рука старухи схватила ее и ввела в комнату. Здесь все двигалось и возилось, визжало, пищало, мяукало и гоготало. Старуха ударила кулаком по столу и закричала:
— Тише вы, сволочь! — И мартышки с визгом полезли на высокий балдахин кровати, и морские свинки побежали за печку, а ворон вспорхнул на круглое зеркало; только черный кот, как будто окрик старухи его нисколько не касался, спокойно продолжал сидеть на большом кресле, на которое он вскочил, как только вошел. Когда все утихло, Вероника ободрилась, ей уже не было так жутко, как там, в сенях, и даже сама женщина не казалась уже ей такою ужасной. Теперь только она оглядела комнату. Отвратительные чучела каких-то животных свешивались с потолка, на полу валялась какая-то необыкновенная посуда, а в камине горел скудный голубоватый огонь, изредка вспыхивавший желтыми искрами; когда он вспыхивал, сверху раздавался какой-то шум, и противные летучие мыши, будто с искаженными смеющимися человеческими лицами, носились туда и сюда; иногда пламя поднималось и лизало закоптелую стену, и тогда раздавались резкие, пронзительные вопли, так что Веронику снова охватил томительный страх.
— С вашего позволения, барышня, — сказала старуха, ухмыляясь, схватила большое помело и, окунув его в медный котел, брызнула в камин.
Огонь потух, и в комнате стало совершенно темно, как от густого дыма; но скоро старуха, вышедшая в другую каморку, вернулась с зажженною свечой, и Вероника уже не увидала ни зверей, ни странной утвари — это была обыкновенная бедно убранная комната. Старуха подошла к ней ближе и сказала гнусавым голосом:
— Я уж знаю, дочка, чего ты от меня хочешь; ну что ж, ты узнаешь, выйти ли тебе замуж за Ансельма, когда он сделается надворным советником. — Вероника онемела от изумления и испуга, но старуха продолжала: — Ведь ты уж мне все рассказала дома у папаши, когда перед тобой стоял кофейник, — ведь я была кофейником, разве ты меня не узнала? Слушай, дочка! Оставь, оставь Ансельма, это скверный человек, он потоптал моих деток, моих милых деток — краснощекие яблочки, которые, когда люди их купят, опять перекатываются из их мешков в мою корзину. Он связался со стариком; он третьего дня облил мне лицо проклятым ауринигментом, так что я чуть не ослепла; посмотри, еще видны следы от ожога. Брось его, брось! Он тебя но любит, ведь он любит золотисто-зеленую змею; он никогда не сделается надворным советником, он поступил на службу к саламандрам и хочет жениться на зеленой змее. Брось его, брось!
Вероника, которая, собственно, обладала твердым и стойким характером и умела скоро преодолевать девичий страх, отступила на шаг назад и сказала серьезным решительным тоном:
— Старуха! я слышала о вашей способности видеть будущее и потому хотела — может быть, с лишним любопытством и опрометчиво — узнать от вас, будет ли когда-нибудь моим господин Ансельм, которого я люблю и уважаю. Если же вы хотите, вместо того чтобы исполнить мое желание, дразнить меня вашей бессмысленной болтовней, то вы поступаете нехорошо, потому что я от вас хотела только того, что, как я знаю, от вас получили другие. Так как вы, по-видимому, знаете мои сокровеннейшие мысли, то вам, пожалуй, было бы легко открыть мне многое, что меня тревожит и мучит, но, судя по вашим глупым клеветам на доброго Ансельма, мне от вас больше ждать нечего. Доброй ночи!
Вероника хотела уйти, но старуха, плача и вопя, бросилась перед нею на колени и, удерживая девушку за платье, воскликнула:
— Вероника, дитя мое, разве ты не узнаешь старую Лизу, которая так часто носила тебя на руках, холила и ласкала?
Вероника едва верила глазам, потому что она в самом деле узнала свою — правда, очень изменившуюся от старости и особенно от ожогов — бывшую няньку, которая много уж лет тому назад исчезла из дома конректора Паульмана. Старуха теперь выглядела уже совсем иначе; вместо гадкого пестрого платка на ней был почтенный чепец, а вместо черных лохмотьев — платье с крупными цветами, какое она обыкновенно носила прежде. Она встала с пола и, обняв Веронику, продолжала:
— Все, что я тебе сказала, могло показаться тебе безумным, но, к несчастью, все это правда. Ансельм сделал мне много зла, но против своей воли; он попал в руки архивариуса Линдгорста, и тот хочет женить его на своей дочери. Архивариус — мой величайший враг, и я могла бы рассказать тебе про него многое, но ты бы не поняла, или же это было бы для тебя слишком страшно. Он ведун, но ведь и я ведунья — в этом все дело! Я теперь вижу, что ты очень любишь Ансельма, и я буду помогать тебе всеми силами, чтобы ты была вполне счастлива и добрым порядком вступила в брак, как ты этого желаешь.
— Но скажи мне, ради бога, Лиза!.. — воскликнула Вероника.
— Тише, дитя, тише! — прервала со старуха. — Я знаю, что ты хочешь сказать; я сделалась такою, потому что должна была сделаться, я не могла иначе. Ну, так вот — я знаю средство, которое вылечит Ансельма от глупой любви к зеленой змее и приведет его как любезнейшего надворного советника в твои объятия; но ты сама должна мне помочь.
— Скажи мне только прямо, Лиза, я все сделаю, потому что я очень люблю Ансельма, — едва слышно пролепетала Вероника.
— Я знаю, — продолжала старуха, — что ты смелое дитя, — напрасно, бывало, я стращала тебя букою, ты только больше раскрывала глаза, чтоб видеть, где бука; ты ходила без свечки в самую далекую комнату и часто в отцовском пудермантеле пугала соседских детей. Ну, так если ты в самом деле хочешь посредством моего искусства преодолеть архивариуса Линдгорста и зеленую змею, если ты в самом деле хочешь назвать Ансельма, надворного советника, своим мужем, так уходи тихонько из дому в будущее равноденствие в одиннадцать часов, ночью, и приходи ко мне; я тогда пойду с тобою на перекресток, здесь недалеко, в поле; мы приготовим что нужно, и все чудесное, что ты, может быть, увидишь, не повредит тебе. А теперь, дочка, покойной ночи, папа уж ждет за ужином.
Вероника поспешила домой в твердом намерении не пропустить ночи равноденствия, потому что, думала она: «Лиза права, Ансельм запутался в таинственные сети, но я освобожу его оттуда и назову его своим навсегда; мой он ость и моим останется, надворный советник Ансельм».
ВИГИЛИЯ ШЕСТАЯ
Сад архивариуса Линдгорста с птицами-пересмешниками. — Золотой горшок. — Английский косой почерк. — Скверные кляксы. — Князь духов.
«Но может быть и то, — сказал самому себе студент Ансельм, — что превосходнейший крепкий желудочный ликер, которым я с некоторою жадностью насладился у мосье Конради, создал все эти безумные фантазмы, которые мучили меня перед дверью архивариуса Линдгорста. Поэтому я сегодня останусь в совершенной трезвости и не поддамся всем дальнейшим неприятностям, с которыми я мог бы встретиться». Как и тогда, в первое свое посещение архивариуса Линдгорста, он забрал все свои рисунки и каллиграфические образцы, свою тушь, свои хорошо очиненные перья и хотел уже выйти из комнаты, как вдруг ему бросилась в глаза склянка с желтою жидкостью, которую он получил от архивариуса Линдгорста. Тут все пережитые им удивительные приключения в пламенных красках прошли по его душе, и несказанное чувство блаженства и скорби прорвалось через его грудь. Невольно воскликнул он самым жалостным голосом: «Ах, не иду ли я к архивариусу затем лишь, чтобы видеть тебя, дорогая, милая Серпентина!» В это мгновение ему представлялось, что любовь Серпентины могла быть наградой за трудную и опасную работу, которую он должен предпринять, и что эта работа есть не что иное, как списывание Линдгорстовых манускриптов. Что ему уже при входе в дом, или даже до того, могут встретиться всякие чудеса, как и прежде, в этом он был убежден. Он уже не думал о желудочном ликере Конради, но поскорее всунул желтую склянку в свой жилетный карман, чтобы поступить согласно предписанию архивариуса, если бы бронзовая торговка опять вздумала скалить на него зубы. И в самом деле, не поднялся ли острый нос, не засверкали ли кошачьи глаза из-за дверного молотка, когда он хотел поднять его при ударе двенадцати часов? И вот, не долго думая, он брызнул жидкостью в фатальную рожу, и она разом сгладилась, и сплющилась, и превратилась в блестящий круглый молоток. Дверь отворилась, и колокольчики приветливо зазвенели по всему дому: «Динь-динь — входи; динь-дон — к нам в дом, живо, живо — динь-динь». Он бодро взошел по прекрасной широкой лестнице, наслаждаясь запахом редкостных курений, наполнявших весь дом. В нерешительности остановился он на площадке, не зная, в которую из многих красивых дверей ему нужно постучаться; тут вышел архивариус Линдгорст в широком шлафроке и воскликнул:
— Ну, я очень рад, господин Ансельм, что вы наконец сдержали слово; следуйте за мною, я должен сейчас же провести вас в лабораторию. — С этими словами он быстро прошел по длинной площадке и отворил маленькую боковую дверь, которая вела в коридор.
Ансельм бодро шел за архивариусом; они прошли из коридора в залу, или, скорее, — в великолепную оранжерею, потому что с обеих сторон до самой крыши подымались редкие чудесные цветы и даже большие деревья с листьями и цветками удивительной формы. Магический ослепительный свет распространялся повсюду, причем нельзя было заметить, откуда он шел, так как не видно было ни одного окна. Когда студент Ансельм взглядывал в кусты и деревья, ему виделись длинные проходы, тянувшиеся куда-то вдаль. В глубоком сумраке густых кипарисов белелись мраморные бассейны, из которых поднимались удивительные фигуры, брызгая хрустальными лучами, которые с плеском ниспадали в блестящие чашечки лилий; странные голоса шумели и шептались в этом удивительном лесу, и повсюду струились чудные ароматы. Архивариус исчез, и Ансельм увидел перед собою только исполинский куст пламенных красных лилий. Опьяненный видом и сладкими ароматами этого волшебного сада, Ансельм стоял неподвижно, как заколдованный. Вдруг отовсюду раздались щебетанье и хохот, и тонкие голоски дразнили и смеялись: «Господин студент, господин студент, откуда это вы пришли? Зачем это вы так прекрасно нарядились, господин Ансельм? Или вы хотите с нами поболтать о том, как бабушка раздавила яйцо задом, а юнкер сделал себе пятно на праздничном жилете? Знаете ли вы наизусть новую арию, которой вас научил дядюшка скворец, господин Ансельм? Вы таки довольно забавно выглядите в стеклянном парике и в сапогах из почтовой бумаги!» Так кричало, хихикало и дразнило изо всех углов, совсем близко от студента, который тут только заметил, что всякие пестрые птицы летали кругом него и таким образом над ним издевались. В это мгновение куст огненных лилий двинулся к нему, и он увидал, что это был архивариус Линдгорст, который своим блестящим желто-красным шлафроком ввел его в обман.
— Извините, почтеннейший господин Ансельм, — сказал архивариус, — что я вас задержал, но я, проходя, хотел посмотреть на тот прекрасный кактус, у которого нынешнею ночью должны распуститься цветы, — но как вам нравится мой маленький зимний сад?
— Ах, боже мой, выше всякой меры, здесь прекрасно, высокочтимый господин архивариус, — отвечал студент, — но пестрые птицы уж чересчур смеются над моим ничтожеством!
— Что тут за вранье? — сердито закричал архивариус в кусты.
Тут выпорхнул большой серый попугай и, севши около архивариуса на миртовую ветку и с необыкновенною серьезностью и важностью смотря на него через очки, сидевшие на кривом клюве, протрещал:
— Не гневайтесь, господин архивариус, мои озорники опять расшалились, но господин студент сам в этом виноват, потому что…
— Тише, тише! — прервал архивариус старика. — Я знаю негодяев, но вам бы следовало держать их лучше в дисциплине, мой друг! Пойдемте дальше, господин Ансельм.
Еще через многие чудно убранные комнаты прошел архивариус, и студент едва поспевал за ним, бросая беглый взгляд на блестящую, странного вида мебель и другие неведомые ему вещи, которыми все было наполнено. Наконец они вошли в большую комнату, где архивариус остановился, поднял взоры вверх, и Ансельм имел время насладиться чудным зрелищем, которое являла простая красота этой залы. Из лазурно-голубых стен выходили золотисто-бронзовые стволы высоких пальм, которые сводили, как крышу, свои колоссальные блестящие изумрудные листья; посредине комнаты на трех из темной бронзы вылитых египетских львах лежала порфировая доска, а на ней стоял простой золотой горшок, от которого Ансельм, лишь только его увидел, не мог уже отвести глаза. Казалось, что в тысячах мерцающих отражений зеркального золота играли всякие образы; иногда он видел самого себя с стремительно простертыми руками — ах! около куста бузины… Серпентина извивалась туда и сюда и глядела на него прелестными глазами. Ансельм был вне себя от безумного восторга.
— Серпентина, Серпентина! — закричал он громко; тогда архивариус Линдгорст быстро обернулся и сказал:
— Что вы говорите, любезный господин Ансельм? Мне кажется, вам угодно звать мою дочь, но она совсем в другой половине моего дома, в своей комнате, и теперь у нее урок музыки. Пойдемте дальше.
Ансельм почти бессознательно последовал за архивариусом; он уж больше ничего не видел и не слышал, пока архивариус не схватил его крепко за руку и не сказал:
— Ну, теперь мы на месте.
Ансельм очнулся как бы от сна и заметил, что находится в высокой комнате, кругом уставленной книжными шкафами и нисколько не отличающейся от обыкновенных библиотек и кабинетов. Посередине стоял большой письменный стол и перед ним — кожаное кресло.
— Вот пока, — сказал архивариус Линдгорст, — ваша рабочая комната; придется ли вам впоследствии заниматься в той другой, голубой зале, где вы так внезапно прокричали имя моей дочери, я еще не знаю; но прежде всего я желал бы убедиться, действительно ли вы способны исполнить, согласно моему желанию и надобности, предоставленную вам работу.
Тут студент Ансельм совершенно ободрился и не без внутреннего самодовольства вынул из кармана свои рисунки и каллиграфические работы, в уверенности, что архивариус весьма обрадуется его необыкновенному таланту. Но архивариус, едва взглянув на первый лист изящнейшего английского письма, образчик косого почерка, странно улыбнулся и покачал головою. То же самое повторял он при каждом следующем листе, так что студенту Ансельму кровь бросилась в голову, и когда под конец улыбка стала совершенно насмешливой и презрительной, он не мог удержать своей досады и проговорил:
— Кажется, господин архивариус не очень доволен моими маленькими талантами?
— Любезный господин Ансельм, — сказал архивариус Линдгорст, — вы действительно обладаете прекрасными способностями к каллиграфии, но пока я ясно вижу, что мне придется рассчитывать более на ваше прилежание и на вашу добрую волю, нежели на уменье. Конечно, многое зависит и от дурного материала, который вы употребляли.
Тут студент Ансельм распространился о своем всеми признанном искусстве, о китайской туши и об отменных вороновых перьях. Но архивариус Линдгорст подал ему английский лист и сказал:
— Судите сами!
Ансельм стоял как громом пораженный, — таким мизерным показалось ему его писание. Никакой округлости в чертах, ни одного правильного утолщения, никакой соразмерности между прописными и строчными буквами, и — о, ужас! — довольно удачные строки испорчены презренными кляксами, точно в тетради школьника.
— И потом, — продолжал архивариус Линдгорст, — ваша тушь тоже плохо держится. — Он окунул палец в стакан с водой, и, когда слегка дотронулся им до букв, псе бесследно исчезло.
Студенту Ансельму как будто кошмар сдавил горло, — он не мог произнести ни слова. Так стоял он с несчастным листом в руках, но архивариус Линдгорст громко засмеялся и сказал:
— Не тревожьтесь этим, любезнейший господин Ансельм; чего вы прежде не могли сделать, может быть, здесь, у меня, лучше вам удастся; к тому же и материал здесь у вас будет лучше! Начинайте только смелее!
Сначала архивариус достал из запертого шкафа какую-то жидкую черную массу, распространявшую совершенно особенный запах, несколько странно окрашенных, тонко очиненных перьев и лист бумаги необыкновенной белизны и гладкости, потом вынул из другого шкафа арабский манускрипт, а затем, как только Ансельм сел за работу, он оставил комнату. Студент Ансельм уже не раз списывал арабские рукописи, поэтому первая задача казалась ему не особенно трудной. «Как попали кляксы в мое прекрасное английское письмо — это пусть ведает бог и архивариус Линдгорст, — промолвил он, — но что они не моей работы, в этом я могу поручиться головой». С каждым словом, удачно выходившим па пергаменте, возрастала его храбрость, а с нею — и уменье. Да и писалось новыми перьями великолепно, и таинственные вороново-черные чернила с удивительной легкостью текли на ослепительно-белый пергамент. Когда он так прилежно и внимательно работал, ему становилось все более по душе в этой уединенной комнате, и он уже совсем освоился с занятием, которое надеялся счастливо окончить, когда с ударом трех часов архивариус позвал его в соседнюю комнату к хорошо приготовленному обеду. За столом архивариус Линдгорст был в особенно веселом расположении духа; он расспрашивал о друзьях студента Ансельма, конректоре Паульмане и регистраторе Геербранде, и рассказывал сам, в особенности об этом последнем, много забавного. Добрый старый рейнвейн был очень по вкусу Ансельму и сделал его разговорчивее обыкновенного. При ударе четырех часов он встал, чтобы идти за работу, и эта пунктуальность, по-видимому, понравилась архивариусу. Если уже перед обедом Анссльму посчастливилось в списыванье арабских знаков, то теперь работа пошла еще лучше, он даже сам не мог понять той быстроты и легкости, с которыми ему удавалось срисовывать кудреватые черты чуждых письмен. Но как будто бы из глубины его души какой-то голос шептал внятными словами: «Ах, разве мог бы ты это исполнить, если бы не носил ее в уме и сердце, если бы ты не верил в нее, в се любовь?» И тихими, тихими, лепечущими хрустальными звуками веяло по комнате: «Я к тебе близко-близко-близко! Я помогаю тебе — будь мужествен, будь постоянен, милый Ансельм! Я тружусь с тобою, чтобы ты был моим!» И он с восторгом вслушивался в эти слова, и все понятнее становились ему неведомые знаки, так что ому почти не нужно было смотреть в оригинал; даже казалось, что эти знаки уже стоят в бледных очертаниях на пергаменте и он должен только искусно покрывать их чернилами. Так продолжал он работать, обвеваемый милыми, утешительными звуками, как сладким нежным дыханием, пока не пробило шесть часов и архивариус не вошел в комнату. Со странной улыбкой подошел он к столу; Ансельм молча встал; архивариус все еще смотрел на него как будто с насмешкой, но только он взглянул на копию, как насмешливая улыбка исчезла в глубоко-торжественной важности, которая изменила все черты его лица. Он казался совсем другим. Глаза, до того сверкавшие огнем, теперь с невыразимой мягкостью смотрели на Ансельма; легкий румянец окрашивал бледные щеки, и вместо иронии, прежде сжимавшей его губы, приятный рот его как будто раскрывался для мудрой, в душу проникающей речи. Вся фигура была выше, величественнее; просторный шлафрок ложился как царская мантия в широких складках около груди и плеч, и белые кудри, окаймлявшие высокое, открытое чело, сжимались узкою золотою диадемою.
— Юноша, — начал архивариус торжественным тоном, — юноша, прежде чем ты об этом помыслил, я уже знал все тайные отношения, которые привязывают тебя к тому, что мне всего более дорого и священно! Серпентина любит тебя, и чудесная судьба, которой роковые нити ткутся враждебными силами, совершится, когда она будет твоею и когда ты, как необходимую придачу, получишь золотой горшок, составляющий се собственность. Но только из борьбы возникнет твое счастье в высшей жизни. Враждебные начала нападут на тебя, и только внутренняя сила, с которою ты противостоишь этим нападениям и искушениям, может спасти тебя от позора и гибели. Работая здесь, ты выдержишь свои искус; вера и познание приведут тебя к близкой цели, если ты будешь твердо держаться того, что ты должен был начать. Будь ей верен и храни ее в душе своей, ее, которая тебя любит, и ты узришь великолепные чудеса золотого горшка и будешь счастлив навеки. Прощай! Архивариус Линдгорст ждет тебя завтра в двенадцать часов в своем кабинете! Прощай! — Архивариус тихонько вывел студента Ансельма за дверь, которую за ним запер, и тот очутился в комнате, в которой обедал и единственная дверь которой вела на лестницу.
Совершенно оглушенный чудесными явлениями, остановился он перед крыльцом, как вдруг над ним растворилось окошко, он поглядел вверх, — это был архивариус Линдгорст — совершенно тот старик в светло-сером сюртуке, каким он его прежде видел.
— Эй, любезный господин Ансельм, — закричал он ему, — о чем это вы так задумались, или арабская грамота не выходит из головы? Кланяйтесь господину конректору Паульману, если вы идете к нему, да возвращайтесь завтра ровно в двенадцать часов. Сегодняшний гонорар уже лежит в правом кармане вашего жилета.
Ансельм действительно нашел блестящий специес-талер в означенном кармане, но это его нисколько не обрадовало. «Что изо всего этого будет, я не знаю, — сказал он самому себе. — Но если мною и овладевает безумная мечта, если я и околдован, все-таки в моем внутреннем существе живет милая Серпентина, и я лучше совсем погибну, нежели откажусь от нее, потому что ведь я знаю, что мысль во мне вечна и никакое враждебное начало не может ее уничтожить; а что же такое эта мысль, как не любовь Серпентины?»
ВИГИЛИЯ СЕДЬМАЯ
Как конректор Паульман выколачивал трубку и ушел спать. — Рембрандт и Адский Брейгель. — Волшебное зеркало и рецепт доктора Экштейна против неизвестной болезни.
Наконец конректор Паульман выбил золу из своей трубки и прибавил:
— А пора и на покой!
— Конечно! — отвечала Вероника, обеспокоенная тем, что отец засиделся, потому что уже давно пробило десять часов. И только что конректор перешел в свою спальню, служившую ему и кабинетом, а более тяжелое дыханье Френцхен возвестило об ее действительном и крепком сне, как Вероника, которая тоже для виду легла в постель, тихонько встала, оделась, набросила на себя плащ и прокралась на улицу. С той минуты как Вероника оставила старую Лизу, Ансельм непрерывно стоял у нее перед глазами, и она сама не знала, какой чужой голос внутри нее беспрестанно повторял ей, что его сопротивление происходит от какого-то враждебного ей лица, державшего его в оковах, которые она может разбить с помощью таинственных средств магического искусства. Ее доверие к старой Лизе росло с каждым днем, и даже прежнее впечатление чего-то недоброго и страшного так притулилось, что все странное и чудесное в ее отношениях со старухой являлось ей лишь в свете необычайного и романического, что ее особенно привлекало. Поэтому она твердо стояла на своем намерении относительно ночного похождения в равноденствие, даже с опасностью попасть в тысячу неприятностей, если ее отсутствие дома будет замечено. Наконец эта роковая ночь, в которую старая Лиза обещала ей помощь и утешение, наступила, и Вероника, давно освоившаяся с мыслию о ночном странствии, чувствовала себя совершенно бодрою. Как стрела промчалась она по пустынным улицам, не обращая внимания на бурю и на ветер, бросавший ей в лицо крупные капли дождя. Глухим гудящим звуком пробил колокол Крестовой башни одиннадцать часов, когда Вероника, совсем промокшая, стояла перед домом старухи.
— Ах, голубушка, голубушка, уж здесь! Ну, погоди, погоди! — раздалось сверху, и вслед за тем старуха, нагруженная корзиной и сопровождаемая своим котом, уже стояла у дверей. — Ну, мы и пойдем и сделаем все, что нужно, и будет нам удача в эту ночь, потому что для этого дела она благоприятна, — говоря так, старуха схватила Веронику своею холодною рукою и дала ей нести тяжелую корзину, а сама достала котел, треножник и заступ.
Когда они вышли в поле, дождь перестал, но буря была еще сильнее; тысячи голосов завывали в воздухе. Страшный, раздирающий сердце вопль раздавался из черных облаков, которые сливались в быстром течении и покрывали все густым мраком. Но старуха быстро шагала, восклицая пронзительным голосом: «Свети, свети, сынок!» Тогда перед ними начали змеиться и скрещиваться голубые молнии, и тут Вероника заметила, что это кот прыгал кругом них, светясь и брызгая трескучими искрами, и что это его жуткий тоскливый вопль она слышала, когда буря умолкала на минуту. У нее захватывало дух, ей казалось, что ледяные когти впиваются в ее сердце, но она сделала над собою усилие и, крепче цепляясь за старуху, проговорила:
— Нужно все исполнить, и будь что будет!
— Так, так, дочка, — отвечала старуха, — будь только постоянна, и я подарю тебе кое-что хорошенькое да еще Ансельма в придачу!
Наконец старуха остановилась и сказала:
— Ну вот мы и на месте! — Она вырыла в земле яму, насыпала в нее углей, поставила над ними треножник, а на него — котел. Все это она сопровождала странными жестами, а кот кружился около нее. Из его хвоста брызгали искры, образуя огненное кольцо. Скоро угли затлелись, и наконец голубое пламя пробилось под треножником. Вероника должна была снять плащ и покрывало и сесть на корточки возле старухи, которая схватила ее руки и крепко их сжала, уставясь на девушку сверкающими глазами. Тут те странные тела, которые старуха вынула из корзины и бросила в котел, — были ли то цветы, металлы, травы или животные, этого нельзя было различить, — все они начали кипеть и шипеть в котле. Старуха оставила Веронику, схватила железную ложку, которую стала мешать в кипящей массе, а Вероника, по ее приказанию, должна была пристально глядеть в котел и направить при этом свои мысли на Ансельма. Затем старуха снова бросила в котел какие-то блестящие металлы и, сверх того, локон волос, которые Вероника отрезала с своей маковки, и маленькое колечко, которое она долго носила; при этом старуха испускала непонятные, в темноте страшно пронзительные звуки, а кот, непрестанно кружась, визжал и вскрикивал.
Хотел бы я, благосклонный читатель, чтобы тебе пришлось 23 сентября быть на дороге к Дрездену; напрасно с наступлением позднего вечера хотели задержать тебя на последней станции; дружелюбный хозяин представлял тебе, что на дворе буря и дождь слишком сильны и что вообще неблагоразумно ехать в такую темень в ночь равноденствия; но ты на это не обратил внимания, совершенно правильно соображая: я дам почтальону целый талер на водку и не позже часа буду в Дрездене, где у «Золотого ангела», или в «Шлеме», или в «Stadt Naumburg»[*] меня ждут хороший ужин и мягкая постель. И вот ты едешь во тьме и вдруг видишь в отдалении чрезвычайно странный, перебегающий свет. Подъехавши ближе, ты видишь огненное кольцо, а в середине его, около котла, из которого вырывается густой дым и сверкающие красные лучи и искры, — две сидящие фигуры. Дорога идет как раз через этот огонь, но лошади фыркают, топчутся и становятся на дыбы; почтальон ругается, молится и бьет лошадей — они не трогаются с места. Невольно выскакиваешь ты из экипажа и делаешь несколько шагов вперед. Тут ты ясно видишь стройную красивую девушку, которая в белом ночном платье склонилась над котлом. Буря расплела ее носы, и длинные каштановые волосы свободно развеваются но воздуху. Дивно прекрасное лицо ее освещено ослепительным огнем, выходящим из-под треножника; но страх оковал это лицо ледяным потоком; мертвенная бледность покрывает его, и в неподвижном взоре, в поднятых бровях, в устах, напрасно открытых для крика смертельной тоски, который не может вырваться из мучительно сдавленной груди, — во всем этом ты ясно видишь ее испуг, ее ужас, судорожно сжатые маленькие руки подняты вверх, как бы в мольбе к ангелам-хранителям защитить ее от адских чудовищ, которые должны сейчас явиться, повинуясь могучим чарам! Так стоит она на коленях неподвижная, точно мраморная статуя. Напротив нее сидит, согнувшись, на земле длинная, худая, медно-желтая старуха с острым ястребиным носом и сверкающими кошачьими глазами; из-под черного плаща, в который она закутана, высовываются голые костлявые руки, и, мешая в адском вареве, смеется она и кричит каркающим голосом среди рева и завывания бури. Я полагаю, любезный читатель, что как бы ты ни был бесстрашен, но и у тебя при взгляде на эту живую картину Рембрандта или Адского Брейгеля волосы встали бы дыбом. Но взор твой не мог оторваться от подпавшей адскому наваждению девушки, и электрический удар, прошедший через все твои нервы и фибры, с быстротою молнии зажег в тебе отважную мысль противостать таинственным силам огненного круга; эта мысль поглотила весь твой страх, из которого она же сама и возникла. Тебе представилось, что ты сам — один из ангелов-хранителей, которым молится смертельно испуганная девушка, что ты должен немедленно вынуть свой карманный пистолет и без дальнейших разговоров убить наповал старуху. Но, живо помышляя об этом, ты громко воскликнул: «Гейда!» или: «Что там такое?» или: «Что вы там делаете?» Тут почтальон громко затрубил в свой рог, старуха опрокинулась в свое варево, и все разом исчезло в густом дыму. Нашел ли бы ты теперь девушку, отыскивая ее в темноте с самым горячим желанием, — этого я сказать не могу, но чары старухи ты бы разрушил и разрешил бы заклятие магического круга, в который Вероника так легкомысленно вступила. Но ни ты, благосклонный читатель, ни другой кто не шел и не ехал той дорогой 23 сентября в бурную и для колдовства благоприятную ночь, и Вероника должна была в мучительном страхе ждать у котла окончания дела. Она слышала, как вокруг нее ревело и завывало наперерыв; как всякие противные голоса мычали и трещали, но она не поднимала глаз, чувствуя, что вид тех ужасов и уродств, которые ее окружали, мог повергнуть ее в гибельное неисцелимое безумие. Старуха перестала мешать в котле, все слабее и слабее становился дым, а под конец только легкое спиртовое пламя еще горело на дне котла. Тогда старуха закричала:
— Вероника, дитя мое милое, смотри туда, на дно, что ты там видишь? Что ты там видишь?
[* «Город Наумбург» (нем.).]
Но Вероника не могла ответить, хотя ей и казалось, что различные смутные фигуры вертятся в котле; но вот все яснее и яснее стали выступать образы, и вдруг из глубины котла вышел студент Ансельм, дружелюбно смотря на нее и протягивая ей руку. Тогда она громко воскликнула:
— Ах, Ансельм, Ансельм!
Старуха быстро отворила кран у котла, и расплавленный металл, шипя и треща, потек в маленькую форму. которую она подставила. Старуха вскочила с места и, вертясь с дикими, отвратительными телодвижениями, закричала:
— Кончено дело! Спасибо, сынок! Хорошо сторожил — фуй, фуй! Он идет! Кусай его! Кусай его!
Но тут сильно зашумело в воздухе, как будто огромный орел спускался, махая крыльями, и страшный голос закричал:
— Эй вы, сволочь! Ну, живей! Прочь скорей! Прочь скорей!
Старуха с воем упала на землю, а Вероника лишилась памяти и чувств. Когда она пришла в себя, был день, она лежала в своей кровати, и Френцхен стояла перед нею с дымящеюся чашкою чая и говорила:
— Скажи, сестрица, что с тобою? Вот уже больше часа я стою здесь, а ты лежишь, как в горячке, без сознания и так стонешь и охаешь, что нам становится страшно. Отец из-за тебя не пошел на урок и сейчас придет сюда с доктором.
Вероника молча взяла чай, и, пока она его глотала, ужасные картины этой ночи живо представились ее глазам. «Так неужели все это был только страшный сон, который меня мучил? Но я ведь вчера вечером действительно пошла к старухе, ведь это было двадцать третьего сентября? Или, может быть, я еще вчера заболела и мне все это вообразилось, а заболела я от постоянных размышлений об Ансельме и о чудной старухе, которая выдавала себя за Лизу и этим меня обманывала».
Тут вышедшая перед тем Френцхен вернулась в комнату, держа в руках совершенно промокший плащ Вероники.
— Посмотри, сестрица, что случилось с твоим плащом, — сказала она, — должно быть, буря ночью растворила окно и опрокинула стул, на котором висел твой плащ, и вот он весь промок от дождя.
Тяжело запало это Веронике в сердце, потому что ей теперь ясно представилось, что это не сон ее мучил, а что она действительно была у старухи. Томительный страх охватил ее, и лихорадочный озноб прошел по всем ее членам. С судорожною дрожью натянула она на себя одеяло и при этом почувствовала что-то твердое у себя на груди; схватившись рукою, она как будто ощупала медальон; когда Френцхен с плащом ушла, она его вынула и увидела маленькое круглое, гладко полированное металлическое зеркало.
— Это подарок старухи! — воскликнула она с живостью, и как будто огненные лучи пробились из зеркала в ее грудь и благотворно согрели ее. Лихорадочный озноб прошел, и всю ее проникло несказанное чувство удовольствия и неги. Она поневоле думала об Ансельме, и, когда она все сильнее и сильнее направляла на него свою мысль, он дружелюбно улыбался ей из зеркала, как живой миниатюрный портрет. Но скоро ей представилось, что она видит уже не изображение, а самого студента Ансельма, живого. Он сидит в высокой, странно убранной комнате и усердно пишет. Вероника хотела подойти к нему, ударить его по плечу и сказать: «Господин Ансельм, оглянитесь, ведь я здесь!» Но это никак не удавалось, потому что его как будто окружал светлый огненный поток, хотя, когда Вероника хорошенько вглядывалась, она видела только большие книги с золотым обрезом. Но наконец Веронике удалось взглянуть Ансельму в глаза. Тогда он как будто очнулся, только теперь вспомнил ее и, улыбаясь, сказал: «Ах, это вы, любезная mademoiselle Паульман! Но почему же вам угодно иногда извиваться, как змейке?» Вероника громко засмеялась этим странным словам; вслед за тем она очнулась как бы от глубокого сна и поспешно спрятала маленькое зеркало, когда дверь отворилась и в комнату вошел конректор Паульман с доктором Экштейном. Доктор Экштейн тотчас же подошел к кровати, ощупал пульс Вероники, погрузился в глубокое размышление и затем сказал: «Ну! Ну!» Засим он написал рецепт, еще раз взял пульс, опять сказал: «Ну! Ну!» — и оставил пациентку. Но из этих заявлений доктора Экштейна конректор Паульман никак не мог заключить, чем, собственно, страдала Вероника.
ВИГИЛИЯ ВОСЬМАЯ
Библиотека с пальмами. — Судьба одного несчастного Саламандра. — Как черное перо любезничало с свекловицею, а регистратор Геербранд весьма напился.
Студент Ансельм уже много дней работал у архивариуса Линдгорста; эти рабочие часы были счастливейшими часами его жизни, потому что здесь, всегда обвеянный милыми звуками, утешительными словами Серпентины, — причем даже его иногда как будто касалось слегка ее мимолетное дыхание, — он чувствовал во всем существе своем никогда прежде не испытанную приятность, часто достигавшую высочайшего блаженства. Всякая нужда, всякая мелкая забота его скудного существования исчезла из его головы, и в новой жизни, взошедшей для него как бы в ясном солнечном блеске, он понял все чудеса высшего мира, вызывавшие в нем прежде только удивление или даже страх. Списывание шло очень быстро, так как ему все более представлялось, что он наносит на пергамент только давно уже известные черты и почти не должен глядеть в оригинал, чтобы воспроизводить все с величайшей точностью. Архивариус появлялся изредка и кроме обеденного времени, но всегда лишь в то именно мгновение, когда Ансельм оканчивал последние строки какой-нибудь рукописи, и давал ому другую, а затем тотчас же уходил, ничего не говоря, а только помешавши в чернилах какою-то черною палочкою и обменявши старые перья на новые, тоньше очиненные. Однажды, когда Ансельм с боем двенадцати часов взошел на лестницу, он нашел дверь, через которую он обыкновенно входил, запертою, и архивариус Линдгорст показался с другой стороны в своем странном шлафроке с блестящими цветами. Он громко закричал:
— Сегодня вы пройдете здесь, любезный Ансельм, потому что нам нужно в ту комнату, где нас ждут мудрецы Бхагаватгиты. — Он зашагал по коридору и провел Ансельма через те же покои и залы, что и в первый раз.
Студент Ансельм снова подивился чудному великолепию сада, но теперь уже ясно видел, что многие странные цветы, висевшие на темных кустах, были, собственно, разноцветными блестящими насекомыми, которые махали крылышками и, кружась и танцуя, казалось, ласкали друг друга своими хоботками. Наоборот, розовые и небесно-голубые птицы оказывались благоухающими цветами, и аромат, ими распространяемый, поднимался из их чашечек в тихих приятных звуках, которые смешивались с плеском далеких фонтанов, с шелестом высоких кустов и деревьев в таинственные аккорды глубокой тоски и желания. Птицы-пересмешники, которые так дразнили его и так издевались над ним в первый раз, опять запорхали кругом него, беспрестанно крича своими тоненькими голосками: «Господин студент, господин студент! не спешите так, не зевайте на облака, а то, пожалуй, упадете и нос расшибете — нос расшибете. Ха, ха! Господин студент, наденьте-ка пудермантель, кум филин завьет вам тупой». Так продолжалась глупая болтовня, пока Ансельм не оставил сада. Архивариус Линдгорст наконец вошел в лазурную комнату; порфир с золотым горшком исчез, вместо него посередине комнаты стоял покрытый фиолетовым бархатом стол с известными Ансельму письменными принадлежностями, а перед столом — такое же бархатное кресло.
— Любезный господин Ансельм, — сказал архивариус Линдгорст, — вы уже списали много рукописей быстро и правильно, к моему великому удовольствию; вы приобрели мое доверие; но теперь остается еще самое важное, а именно: нужно списать, или, скорее, срисовать кое-какие особенными знаками написанные сочинения, которые я сохраняю в этой комнате и которые могут быть списаны только на месте. Поэтому вы будете работать здесь, но я должен рекомендовать вам величайшую осторожность и внимательность: неверная черта или, чего боже сохрани, чернильное пятно на оригинале повергнет вас в несчастие.
Ансельм заметил, что из золотых стволов пальм высовывались маленькие изумрудно-зеленые листья; архивариус взял один из них, и Ансельм увидел, что это был, собственно, пергаментный сверток, который архивариус развернул и разложил перед ним на столе. Ансельм немало подивился на странно сплетавшиеся знаки, и при виде множества точек, черточек, штрихов и закорючек, которые, казалось, изображали то цветы, то мхи, то животных, он почти лишился надежды срисовать все это в точности. Это погрузило его в глубокие размышления.
— Смелее, молодой человек! — воскликнул архивариус. — Есть у тебя испытанная вера и истинная любовь, так Серпентина тебе поможет! — Его голос звучал, как звенящий металл, и, когда Ансельм в испуге поднял глаза, архивариус Линдгорст стоял перед ним в царском образе, каким он видел его при первом посещении, в библиотеке.
Ансельм хотел в благоговении опуститься на колени, но тут архивариус Линдгорст поднялся по стволу пальмы и исчез в изумрудных листьях. Студент Ансельм понял, что с ним говорил князь духов, который теперь удалился в свой кабинет для того, может быть, чтобы побеседовать с лучами — послами каких-нибудь планет — о том, что должно случиться с ним и с дорогой Серпентиной. «А может быть, также, — думал он далее, — его ожидают новости с источников Нила или визит какого-нибудь чародея из Лапландии, — мне же подобает усердно приняться за работу». И с этим он начал изучать чуждые знаки на пергаменте. Чудесная музыка сада звучала над ним и обвевала его приятными сладкими ароматами; слышал он и хихиканье пересмешников, но слов их уже не понимал, что ему было весьма по душе. Иногда будто шумели изумрудные листья пальм, и через комнату сверкали лучами милые хрустальные звуки колокольчиков, которые Ансельм впервые слышал под кустом бузины в тот роковой день вознесения. Студент Ансельм, чудесно подкрепленный этим звоном и светом, все тверже и тверже останавливал свою мысль на заглавии пергамента, и скоро он внутренне почувствовал, что знаки не могут означать ничего другого, как следующие слова: «О браке Саламандра с зеленою змеею». Тут раздался сильный тройной звон хрустальных колокольчиков. «Ансельм, милый Ансельм!» — повеяло из листьев, и — о, чудо! — но стволу пальмы спускалась, извиваясь, зеленая змейка.
— Серпентина! дорогая Серпентина! — воскликнул Ансельм в безумном восторге, ибо, всматриваясь пристальнее, он увидал, что к нему спускается прелестная, чудная девушка, с несказанною любовью устремив на него темно-голубые глаза, что вечно жили в душе его.
Листья будто опускались и расширялись, отовсюду из стволов показывались колючки, но Серпентина искусно вилась и змеилась между ними, влача за собою свое развевающееся блестящее переливчатое платье так, что оно, прилегая к стройному телу, нигде не цеплялось за иглы и колючки дерев. Она села возле Ансельма на то же кресло, обняв его одной рукой и прижимая к себе так, что он ощущал ее дыхание, ощущая электрическую теплоту ее тела.
— Милый Ансельм, — начала Серпентина, — теперь ты скоро будешь совсем моим; ты добудешь меня своею верою, своею любовью, и я дам тебе золотой горшок, который нас обоих осчастливит навсегда.
— Милая, дорогая Серпентина, — сказал Ансельм, — когда я буду владеть тобою, что мне до всего остального? Если только ты будешь моею, я готов хоть совсем пропасть среди всех этих чудес и диковин, которые меня окружают с тех пор, как я тебя увидел.
— Я знаю, — продолжала Серпентина, — что то непонятное и чудесное, чем мой отец иногда, ради своего каприза, поражает тебя, вызывает в тебе изумление и страх; но теперь, я надеюсь, этого уже больше не будет: ведь я пришла сюда в эту минуту затем, милый Ансельм, чтобы рассказать тебе из глубины души и сердца все в подробности, что тебе нужно знать, чтобы понимать моего отца и чтобы тебе было ясно все касающееся его и меня.
Апсельм чувствовал себя так тесно обвитым и так всецело проникнутым дорогим существом, что он только вместе с нею мог дышать и двигаться, и как будто только се пульс трепетал в его фибрах и нервах; он вслушивался в каждое ее слово, которое отдавалось в глубине его души и, точно яркий луч, зажигало в нем небесное блаженство. Он обнял рукою ее гибкое тело, но блестящая переливчатая материя ее платья была так гладка, так скользка, что ему казалось, будто она может быстрым движением неудержимо ускользнуть от него, и он трепетал при этой мысли.
— Ax, не покидай меня, дорогая Серпентина, — невольно воскликнул он, — только в тебе жизнь моя!
— Не покину тебя сегодня, — сказала она, — пока не расскажу тебе всего того, что ты можешь понять в своей любви ко мне. Итак, знай, милый, что мой отец происходит из чудесного племени Саламандров и что я обязана своим существованием его любви к золеной змее. В древние времена царил в волшебной стране Атлантиде могучий князь духов Фосфор, которому служили стихийные духи. Один из них, его любимый Саламандр (это был мой отец), гуляя однажды по великолепному саду, который мать Фосфора украсила своими лучшими дарами, подслушал, как высокая лилия тихим голосом пела: «Крепко закрой глазки, пока мой возлюбленный, восточный ветер, тебя не разбудит!» Он подошел; тронутая его пламенным дыханием, лилия раскрыла листки, и он увидал ее дочь, зеленую змейку, дремавшую в чашечке цветка. Тогда Саламандр был охвачен пламенной любовью к прекрасной змее и похитил ее у лилии, которой ароматы тщетно разливались по всему саду в несказанных жалобах по возлюбленной дочери. А Саламандр унес ее в замок Фосфора и молил его: «Сочетай меня с возлюбленной, потому что она должна быть моею вечно». — «Безумец, чего ты требуешь? — сказал князь духов. — Знай, что некогда лилия была моею возлюбленною и царствовала со мною, но искра, которую я заронил в нее, грозила ее уничтожить, и только победа над черным драконом, которого теперь земные духи держат в оковах, сохранила лилию, и ее листья достаточно окрепли, чтобы удержать и хранить в себе искру. Но, когда ты обнимешь зеленую змею, твой жар истребит тело, и новое существо, быстро зародившись, улетит от тебя». Саламандр не послушался предостережений владыки; полный пламенного желания, заключил он зеленую змею в свои объятия, она распалась в пепел, и из пепла рожденное крылатое существо с шумом поднялось на воздух. Тут обезумел Саламандр от отчаяния, и побежал он, брызжа огнем и пламенем, по саду и опустошил его в диком бешенстве так, что прекраснейшие цветы и растения падали спаленные, и их вопли наполняли воздух. Разгневанный владыка духов схватил Саламандра и сказал: «Отбушевал твой огонь, потухло твое пламя, ослепли твои лучи, — ниспади теперь к земным духам, пусть они издеваются над тобою, и дразнят тебя, и держат в плену, пока снова не возгорится огненная материя и не прорвется из земли с тобою как новым существом». Бедный Саламандр, потухший, ниспал, по тут выступил старый ворчливый земной дух, бывший садовником у Фосфора, и сказал: «Владыка, кому больше жаловаться на Саламандра, как мне? Не я ли украсил моими лучшими металлами прекрасные цветы, которые он спалил? Не я ли усердно сохранял и лелеял их зародыши и потратил на них столько чудных красок? И все же я заступлюсь за бедного Саламандра; ведь только любовь, которую и ты, владыка, не раз изведал, привела его к тому отчаянию, в котором он опустошил твой сад. Избавь же его от тяжкого наказания!» — «Его огонь теперь потух, — сказал владыка духов, — но в то несчастное время, когда язык природы не будет более понятен выродившемуся поколению людей, когда стихийные духи, замкнутые в своих областях, будут лишь издалека в глухих отзвучиях говорить с человеком, когда ему, оторвавшемуся от гармонического круга, только бесконечная тоска будет давать темную весть о волшебном царстве, в котором он некогда обитал, пока вера и любовь обитали в его душе, — в это несчастное время вновь возгорится огонь Саламандра, но только до человека разовьется он и, вступив в скудную жизнь, должен будет переносить все ее стеснения. Но не только останется у него воспоминание о его прежнем бытии, он снова заживет в священной гармонии со всею природою, будет понимать ее чудеса, и могущество родственных духов будет в его распоряжении. В кусте лилий он снова найдет зеленую змею, и плодом их сочетания будут три дочери, которые будут являться людям в образе своей матери. В весеннее время будут они качаться на темном кусте бузины, и будут звучать их чудные хрустальные голоса. И если тогда, в это бедное, жалкое время внутреннего огрубения и слепоты, найдется между людьми юноша, который услышит их пение, если одна из змеек посмотрит на него своими прелестными глазами, если этот взгляд зажжет в нем стремление к далекому чудному краю, к которому он сможет мужественно вознестись, лишь только он сбросит с себя бремя пошлой жизни, если с любовью к змейке зародится в нем живая и пламенная вера в чудеса природы и в его собственное существование среди этих чудес, — тогда змейка будет принадлежать ему. Но не прежде, чем найдутся три таких юноши и сочетаются с тремя дочерьми, можно будет Саламандру сбросить его тяжелое бремя и вернуться к братьям». — «Позволь мне, владыка, — сказал земной дух, — сделать дочерям подарок, который украсит их жизнь с обретенным супругом. Каждая получит от меня по горшку из прекраснейшего металла, каким я обладаю; я вылощу его лучами, взятыми у алмаза; пусть в его блеске ослепительно-чудесно отражается наше великолепное царство, каким оно теперь находится в созвучии со всею природою, а изнутри его в минуту обручения пусть вырастет огненная лилия, которой вечный цвет будет обвевать испытанного юношу сладким ароматом. Скоро он поймет ее язык и чудеса нашего царства и сам будет жить с возлюбленною в Атлантиде». Ты уже знаешь, милый Ансельм, что мой отец есть тот самый Саламандр, о котором я тебе рассказала. Он должен был, несмотря на свою высшую природу, подчиниться всем мелким условиям обыкновенной жизни, и отсюда проистекают его злорадные капризы, которыми он многих дразнит. Он часто говорил мне, что для тех духовных свойств, которые были тогда указаны князем духов Фосфором как условия обручения со мною и с моими сестрами, теперь имеется особое выражение, которым, впрочем, часто неуместно злоупотребляют, а именно — это называется наивной поэтической душой. Часто такою душою обладают те юноши, которых, по причине чрезмерной простоты их нравов и совершенного отсутствия у них так называемого светского образования, толпа презирает и осмеивает. Ах, милый Ансельм! Ты ведь понял под кустом бузины мое пение, мой взор, ты любишь зеленую змейку, ты веришь в меня и хочешь моим быть навеки. Прекрасная лилия расцветет в золотом горшке, и мы будем счастливо, соединившись, жить блаженною жизнью в Атлантиде. Но я не могу скрыть от тебя, что в жестокой борьбе с саламандрами и земными духами черный дракон вырвался из оков и пронесся по воздуху. Хотя Фосфор опять заключил его в оковы, но из черных перьев, попадавших во время битвы на землю, народились враждебные духи, которые повсюду противоборствуют саламандрам и духам земли. Та женщина, которая тебе так враждебна, милый Ансельм, и которая, как моему отцу это хорошо известно, стремится к обладанию золотым горшком, обязана своим существованием любви одного из этих драконовых перьев к какой-то свекловице. Она сознает свое происхождение и свою силу, так как в стонах и судорогах пойманного дракона ей открылись тайны чудесных созвездий, и она употребляет все средства, чтобы действовать извне внутрь, тогда как мой отец, напротив, сражается с нею молниями, вылетающими изнутри Саламандра. Все враждебные начала, обитающие в зловредных травах и ядовитых животных, она собирает и, смешивая их при благоприятном созвездии, вызывает много злых чар, наводящих страх и ужас на чувства человека и отдающих его во власть тех демонов, которых произвел пораженный дракон во время битвы. Берегись старухи, милый Ансельм, она тебе враждебна, так как твой детски чистый нрав уже уничтожил много ее злых чар. Будь верен, верен мне, скоро будешь ты у цели!
— О моя, моя Серпентина! — воскликнул студент Ансельм. — Как бы мог я тебя оставить, как бы мог я не любить тебя вечно!
Тут поцелуй запылал на его устах; он очнулся как бы от глубокого сна; Серпентина исчезла, пробило шесть часов, и ему стало тяжело, что он совсем ничего не списал; он посмотрел на лист, озабоченный тем, что скажет архивариус, и — о, чудо! — копия таинственного манускрипта была счастливо окончена, и, пристальнее вглядываясь в знаки, он уверился, что списал рассказ Серпентины об ее отце — любимце князя духов Фосфора в волшебной стране Атлантиде. Тут вошел сам архивариус Линдгорст в своем светло-сером плаще, со шляпою на голове и палкой в руках; он посмотрел на исписанный Ансельмом пергамент, взял сильную щепотку табаку и, улыбаясь, сказал:
— Так я и думал! Ну, вот ваш специес-талер, господин Ансельм, теперь мы можем еще пойти к Линковым купальням, — за мною! — Архивариус быстро прошел по саду, где был такой шум — пение, свист и говор, что студент Ансельм совершенно был оглушен и благодарил небо, когда они очутились на улице. Едва сделали они несколько шагов, как встретили регистратора Геербранда, который к ним дружелюбно присоединился. Около городских ворот они набили трубки; регистратор Геербранд сожалел, что не взял с собою огнива, но архивариус Линдгорст с досадой воскликнул:
— Какого там еще огнива! Вот вам огня сколько угодно! — И он стал щелкать пальцами, из которых посыпались крупные искры, быстро зажегшие трубки.
— Смотрите, какой химический фокус! — сказал регистратор Геербранд, но студент Ансельм не без внутреннего содрогания подумал о Саламандре. В Линковых купальнях регистратор Геербранд — вообще человек добродушный и спокойный — выпил так много крепкого пива, что начал петь пискливым тенором студенческие песни и у всякого спрашивал с горячностью: друг ли он ему или нет? — пока наконец не был уведен домой студентом Ансельмом, после того как архивариус Линдгорст уже давно ушел.
ВИГИЛИЯ ДЕВЯТАЯ
Как студент Ансельм несколько образумился. — Компания за пуншем. — Как студент Ансельм принял конректора Паульмана за филина и как тот весьма за это рассердился. — Чернильное пятно и его следствия.
Все странное и чудесное, ежедневно происходившее со студентом Ансельмом, совершенно вырвало его из обыкновенной жизни. Он не видался ни с кем из своих друзей и каждое утро с нетерпением ждал двенадцатого часа, открывавшего ему его рай. Но все же, хотя вся его душа была обращена к дорогой Серпентине и к чудесам волшебного царства у архивариуса Линдгорста, он иногда невольно думал о Веронике, и ему не раз даже казалось, будто она приближается к ному и, краснея, признается, как сердечно она его любит и как все помышляет о том, чтобы вырвать его у тех фантомов, которые его только дразнят и издеваются над ним. Иногда будто чуждая, внезапно налетающая на него сила неудержимо тянула его к забытой Веронике, и он должен был следовать за нею, куда она хотела, как будто он был прикован к этой девушке. Как раз в ночь после того дня, когда он впервые увидал Серпентину в образе прелестной девы и когда ему открылась чудесная тайна о браке Саламандра с зеленою змеею, — как раз в следующую за тем ночь Вероника живее, чем когда-либо, явилась его глазам.
Только проснувшись, он понял, что это был лишь сон, а то он был уверен, что Вероника действительно была у него и жаловалась в выражениях глубокой скорби, проникавших в его душу, что он приносит ее сердечную любовь в жертву фантастическим явлениям, порожденным его внутренним расстройством и имеющим, сверх того, повергнуть его в несчастие и гибель. Вероника была приятнее, чем когда-либо; он никак не мог изгнать се из мыслей; это состояние было мучительно, и он думал избавиться от него утренней прогулкой. Тайная магическая сила увлекла его к Пирнаским воротам, и только что он хотел завернуть в боковую улицу, как конректор Паульман, догоняя его, громко закричал:
— Эй, эй, почтеннейший господин Ансельм! Amice![*] Amice! Где это вы пропадаете, скажите, ради бога? Вас совсем не видать. Знаете, что Вероника страдает от желания еще раз петь с вами? Ну, идемте же, ведь вы ко мне шли!
[* Друг! (лат.)]
Студент Ансельм поневоле пошел с конректором. При входе в дом их встретила Вероника, очень заботливо одетая, так что конректор Паульман в удивлении спросил:
— Что так нарядилась? Разве ждала гостей? А вот я и веду тебе господина Ансельма!
Когда студент Ансельм учтиво и любезно поцеловал руку Вероники, он почувствовал легкое пожатие, которое, как огненный поток, прошло по его нервам. Вероника была сама веселость, сама приятность, и, когда Паульман ушел в свой кабинет, она сумела разными лукавыми проделками так расшевелить Ансельма, что он, забыв всякую робость, стал играть и бегать с резвой девушкой по комнате. Но тут на него опять напал демон неловкости, он ударился об стол и хорошенький рабочий ящичек Вероники упал на пол. Ансельм поднял его, крышка отскочила, и ему бросилось в глаза маленькое круглое металлическое зеркало, в которое он стал смотреть с особенным наслаждением. Вероника тихонько прокралась к нему сзади, положила свою руку ему на спину и, прижимаясь к нему, через его плечо стала также смотреть в это зеркало. Тогда внутри Ансельма как будто началась борьба; мысли, образы мелькали и исчезали — архивариус Линдгорст — Серпентина — зеленая змея, — потом стало спокойнее, и все смутное устроилось и определилось в ясном сознании. Теперь ему стало ясно, что он постоянно думал только о Веронике, что тот образ, который являлся ему вчера в голубой комнате, была опять-таки Вероника и что фантастическая сказка о браке Саламандра с зеленою змеею была им только написана, а никак не рассказана ему. Он сам подивился своим грезам и приписал их своему экзальтированному, вследствие любви к Веронике, душевному состоянию, а также своей работе у архивариуса Линдгорста, в комнатах которого, сверх того, так странно пахнет. Он искренне посмеялся над нелепой фантазией влюбляться в змейку и принимать состоящего на коронной службе тайного архивариуса за Саламандра.
— Да, да, это Вероника! — воскликнул он громко и, обернувшись, прямо встретил голубые глаза Вероники, сиявшие любовью и желанием.
Глухое «ах»! вырвалось из ее уст, и губы их тотчас же слились в горячем поцелуе. «О я счастливец! — вздохнул восхищенный студент. — То, о чем я вчера лишь грезил, сегодня выпадает мне на долю в действительности».
— И ты в самом деле женишься на мне, когда будешь надворным советником? — спросила Вероника.
— Всеконечно, — отвечал студент Ансельм. Тут заскрипела дверь, и конректор Паульман вошел со словами:
— Ну, дорогой господин Ансельм, сегодня я вас не отпущу, вы отведаете нашего супа, а потом Вероника приготовит нам отличнейшего кофе, к которому обещался прийти и регистратор Геербранд.
— Ах, добрейший господин конректор, — возразил студент Ансельм, — разве вы не знаете, что я должен идти к архивариусу Линдгорсту списывать?
— Смотрите-ка, — сказал конректор, протягивая ему свои часы, показывавшие половину первого.
Студент Ансельм теперь увидел, что уже поздно идти к архивариусу Линдгорсту, и тем охотнее уступил желанию конректора, что это позволяло ему целый день смотреть на Веронику, и он надеялся добиться не одного ласкового взгляда, брошенного украдкой, не одного нежного пожатия руки, а, может быть, даже и поцелуя. До такой высокой степени доходили теперь желания студента Ансельма, и он чувствовал себя тем лучше, чем более убеждался, что скоро освободится ото всех фантастических грез, которые в самом деле могли бы довести его до сумасшествия. Регистратор Геербранд действительно явился после обеда, и, когда кофе был выпит и наступили сумерки, он, ухмыляясь и радостно потирая руки, заявил, что имеет с собою нечто такое, что, будучи смешано прекрасными ручками Вероники и введено в надлежащую форму — так сказать, пронумеровано и подведено под рубрики, — будет весьма приятно им всем в этот холодный октябрьский вечер.
— Ну, так выкладывайте скорее ваше таинственное сокровище, досточтимый регистратор, — воскликнул конректор Паульман; и вот регистратор Геербранд запустил руку в глубокий карман своего сюртука и выложил оттуда в три приема бутылку арака, несколько лимонов и сахару. Через полчаса на столе Паульмана уже дымился превосходный пунш. Вероника разливала напиток, и между друзьями шла добродушная, веселая беседа. Но как только спиртные пары поднялись в голову студента Ансельма, все странности и чудеса, пережитые им за последнее время, снова восстали перед ним. Он видел архивариуса Линдгорста в его камчатом шлафроке, сверкавшем, как фосфор; он видел лазурную комнату, золотые пальмы; он даже снова почувствовал, что все-таки должен верить в Серпентину, — внутри его что-то волновалось, что-то бродило. Вероника подала ему стакан пунша, и, принимая его, он слегка коснулся ее руки. «Серпентина, Вероника!» — вздохнул он. Он погрузился в глубокие грезы, но регистратор Геербранд воскликнул очень громко:
— Чудной, непонятный старик этот архивариус Линдгорст. Ну, за его здоровье! Чокнемтесь, господин Ансельм!
Тут студент Ансельм очнулся от своих грез и, чокаясь с регистратором Геербрандом, сказал:
— Это происходит оттого, почтеннейший господин регистратор, что господин архивариус Линдгорст есть, собственно, Саламандр, опустошивший сад князя духов Фосфора в сердцах за то, что от него улетела зеленая змея.
— Что? Как? — спросил конректор Паульман.
— Да, — продолжал студент Ансельм, — поэтому-то он должен теперь быть королевским архивариусом и проживать здесь в Дрездене со своими тремя дочерьми, которые, впрочем, суть не что иное, как три маленькие золотисто-зеленые змейки, что греются на солнце в кустах бузины, соблазнительно поют и прельщают молодых людей, как сирены.
— Господин Ансельм, господин Ансельм! — воскликнул конректор Паульман. — У вас в голове звенит? Что за чепуху такую, прости господи, вы тут болтаете?
— Он прав, — вступился регистратор Геербранд, — этот архивариус в самом деле проклятый Саламандр; он выщелкивает пальцами огонь и прожигает на сюртуках дыры на манер огненной губки. Да, да, ты прав, братец Ансельм, и кто этому не верит, тот мне враг! — И с этими словами регистратор ударил кулаком по столу, так что стаканы зазвенели.
— Регистратор, вы взбесились, — закричал рассерженный конректор. — Господин студиозус, господин студиозус, что вы такое опять затеяли?
— Ax, — сказал студент, — ведь и вы, господин конректор, не более как птица филин, завивающий тупеи.
— Что? Я птица филин, завиваю тупеи? — закричал конректор вне себя от гнева. — Да вы с ума сошли, милостивый государь, вы сошли с ума!
— Но старуха еще сядет ему на шею, — воскликнул регистратор Геербранд.
— Да, старуха сильна, — вступился студент Ансельм, — несмотря на свое низменное происхождение, так как ее папаша есть не что иное, как оборванное крыло, а ее мамаша — скверная свекла, но большей частью своей силы она обязана разным злобным тварям — ядовитым канальям, которыми она окружена.
— Это гнусная клевета, — воскликнула Вероника со сверкающими от гнева глазами. — Старая Лиза — мудрая женщина, и черный кот вовсе не злобная тварь, а образованный молодой человек самого тонкого обращения и ее cousin germain[*].
[* Двоюродный брат (фр.).]
— Может ли Саламандр жрать, не спаливши себе бороды и не погибнувши жалким образом? — вопрошал регистратор Геербранд.
— Нет, нет! — кричал студент Ансельм. — Никогда с ним этого не случится, и зеленая змея меня любит, потому что у меня наивная душа, и я увидал глаза Серпентины.
— А кот их выцарапает, — воскликнула Вероника.
— Саламандр, Саламандр всех одолеет, всех! — вдруг заревел конректор Паульман в величайшем бешенстве. — Но не в сумасшедшем ли я доме? Не сошел ли я сам с ума? Что за чушь я сейчас сболтнул! Да, и я обезумел, и я обезумел. — С этими словами конректор вскочил, сорвал с головы парик и, скомкавши, бросил его к потолку, осыпая всех пудрою, которая летела с растерзанных буклей.
Тут студент Ансельм и регистратор Геербранд схватили пуншевую миску, стаканы и с радостными восклицаниями стали бросать их к потолку, так что осколки со звоном падали кругом. «Vivat[*] Саламандр! Pereat[**], pereat старуха! Бей металлическое зеркало! Рви глаза у кота! Птичка, птичка, со двора! Эван, эвоэ, Саламандр!» Так кричали и ревели все трое, точно бесноватые. Френцхен убежала с громким плачем; Вероника же, визжа от огорчения и скорби, упала па диван. Но вот отворилась дверь, все внезапно смолкло, и маленький человечек в сером плаще вошел в комнату. Лицо его имело в себе нечто удивительно важное, и в особенности выдавался его кривой нос, на котором сидели большие очки. При этом на нем был совершенно особенный парик, более похожий на шапку из перьев.
[* Да здравствует (лат.).]
[** Да сгинет (лат.).]
— Доброго вечера, доброго вечера, — заскрипел забавный человечек. — Здесь ведь могу я найти студиозуса господина Ансельма? Господин архивариус Линдгорст свидетельствует вам свое почтение, и он понапрасну ждал господина Ансельма сегодня, но завтра он покорнейше просит не пропустить обычного часа. — И с этими словами он повернулся и вышел, и тут все поняли, что важный человечек был, собственно, серый попугай. Конректор Паульман и регистратор Геербранд подняли хохот, раздававшийся по всей комнате; Вероника между тем визжала и ахала, как бы раздираемая несказанною скорбью, но студентом Ансельмом овладел безумный ужас, и он бессознательно выбежал из дверей на улицу. Машинально нашел он свой дом, свою каморку. Вскоре затем к нему вошла Вероника, мирно и дружелюбно, и спросила его, зачем он ее так мучил, напившись, и пусть он остерегается новых фантазий, когда будет работать у архивариуса Линдгорста. «Доброй ночи, доброй ночи, мой милый друг!» — прошептала Вероника и тихо поцеловала его в губы. Он хотел обнять ее, но видение исчезло, и он проснулся бодрый и веселый. Он мог только посмеяться от души над действием пунша, но, думая о Веронике, он чувствовал себя очень приятно. «Ей одной, — говорил он сам себе, — обязан я своим избавлением от нелепых фантазий. В самом деле, я был очень похож на того сумасшедшего, который думал, что он стеклянный, или на того, который не выходил из своей комнаты из опасения быть съеденным курами, так как он воображал себя ячменным зерном. Но только что я сделаюсь надворным советником, я немедленно женюсь на mademoiselle Паульман и буду счастлив». Когда он затем, в полдень, проходил по саду архивариуса Линдгорста, он не мог надивиться, как это ему прежде все здесь могло казаться чудесным и таинственным. Он видел только обыкновенные растения в горшках — герани, мирты и тому подобное. Вместо блестящих пестрых птиц, которые прежде его дразнили, теперь порхали туда и сюда несколько воробьев, которые, увидевши Ансельма, подняли непонятный и неприятный крик. Голубая комната также представилась ему совершенно иною, и он не мог понять, как этот резкий голубой цвет и эти неестественные золотые стволы пальм с их бесформенными блестящими листьями могли нравиться ему хотя на мгновение. Архивариус посмотрел на него с совершенно особенною ироническою усмешкою и спросил:
— Ну, как же вам понравился вчера пунш, дорогой Ансельм?
— Ах, вам, конечно, попугай… — отвечал было Ансельм, совершенно сконфуженный, но вдруг остановился, подумав, что ведь и попугай, вероятно, был только обманом чувств.
— Э, я и сам был в компании, — возразил архивариус, — разве вы меня не видели? Но от безумных штук, которые вы проделывали, я чуть было не пострадал, потому что я еще сидел в миске, когда регистратор Геербранд схватил ее, чтобы бросить к потолку, и я должен был поскорее ретироваться в трубку конректора. Ну, adieu, господин Ансельм. Будьте прилежны, а я и за вчерашний пропущенный день плачу вам специес-талер, так как вы до сих пор хорошо работали.
«Как это архивариус может плести такой вздор?» — сказал сам себе студент Ансельм и сел за стол, чтобы начать списывать рукопись, которую архивариус, по обыкновению, положил перед ним. Но он увидел на пергамент ном свитке такое множество черточек, завитков и закорючек, сплетавшихся между собою и не позволявших глазу ни на чем остановиться, что почти совсем потерял надежду скопировать все это в точности. При общем взгляде пергамент представлялся куском испещренного жилами мрамора или камнем, проросшим мохом. Тем не менее он хотел попытаться и окунул перо, но чернила никак не хотели идти; в нетерпении он потряс пером, и — о, небо! — большая капля чернил упала на развернутый оригинал. Свистя и шипя, вылетела голубая молния из пятна и с треском зазмеилась по комнате до самого потолка. Со стен поднялся густой туман, листья зашумели, как бы сотрясаемые бурею, из них вырвались сверкающие огненные василиски, зажигая пары, так что пламенные массы с шумом заклубились вокруг Ансельма. Золотые стволы пальм превратились в исполинских змей, которые с резким металлическим звоном столкнулись своими отвратительными головами и обвили Ансельма своими чешуйчатыми туловищами. «Безумный, претерпи теперь наказание за то, что ты столь дерзновенно совершил!» — так воскликнул страшный голос венчанного Саламандра, который появился над змеями как ослепительный луч среди пламени, и вот их разверстые зевы испустили огненные водопады на Ансельма, и эти огненные потоки, как бы сгущаясь вокруг его тела, превращались в твердью ледяные массы. Члены Ансельма, все теснее сжимаясь, коченели, и он лишился сознания. Когда он снова пришел в себя, он не мог двинуться и пошевелиться; он словно окружен был каким-то сияющим блеском, о который он стукался при малейшем усилии — поднять руку или сделать движение. Ах! он сидел в плотно закупоренной хрустальной склянке на большом столе в библиотеке архивариуса Линдгорста.
ВИГИЛИЯ ДЕСЯТАЯ
Страдания студента Ансельма в склянке. — Счастливая жизнь ученика и писцов. — Сражение в библиотеке архивариуса Линдгорста. — Победа Саламандра и освобождение студента Ансельма.
Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд, разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию. В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма; если же ты и во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя, ради меня и Ансельма, на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя; все предметы кругом кажутся тебе освещенными и окруженными лучистыми радужными красками; все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии, — ты неподвижно плаваешь как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя, так что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве; твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшною болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме, но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он но мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими, неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О Серпентина, Серпентина, спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облегли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины; гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. «Не сам ли я виноват в своем бедствии, ах, не согрешил ли я против тебя самой, чудная, возлюбленная Серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастие? Ах, теперь ты никогда не будешь моею, потерян для меня золотой горшок, я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный, сладостный голос, милая Серпентина!» — так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокою острою скорбью; вдруг совсем около него кто-то сказал: «Не понимаю, чего вы хотите, господин студент, зачем эти ламентации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что рядом с ним, на том же столе, стояло еще пять склянок, в которых он увидел трех учеников Крестовой школы и двух писцов.
— Ах, милостивые государи, товарищи моего несчастия, — воскликнул он, — как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь и вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в Саламандра и в зеленую змею?
— Вы бредите, господин студиозус, — возразил один из учеников. — Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специес-талеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу; нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры; мы теперь каждый день ходим к Иозефу или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, «Gaudeamus igitur…» — и благодушествуем.
— Они совершенно правы, — вступился писец, — я тоже вдоволь снабжен специес-талерами, так же, как и мой дорогой коллега рядом, и, вместо того чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места.
— Но, любезнейшие господа, — сказал студент Ансельм, — разве вы не замечаете, что вы все вместе и каждый в частности сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?
Тут ученики и писцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошел: воображает, что сидит в стеклянной банке, а стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду. Пойдемте-ка дальше!» — «Ах, — вздохнул студент, — они никогда не видали прелестную Серпентину; они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость, но я, несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и зашелестел по комнате голос Серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся!» И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряясь их власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что Серпентина его еще любит и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастия, а направил все свои чувства и мысли только на дорогую Серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое, противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого, сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от Черных ворот. Она оскалила на него зубы, засмеялась и воскликнула дребезжащим голосом:
— Эй, эй, сынок, будешь еще упрямиться? Вот попал же под стекло! Говорила вперед: попадешь ты под стекло!
— Что ж, смейся, издевайся, проклятая ведьма! — сказал студент Ансельм. — Ты виновата во всем, но Саламандр задаст тебе, гадкая свекла!
— Ого, — возразила старуха, — какой гордый! Ты наступил на лицо моим сыночкам, ты обжог мне нос, но я к тебе добра, плутишка, потому что ты сам по себе был порядочным человеком и дочка моя тоже расположена к тебе. Но из-под стекла ты не выйдешь, если я не помогу тебе; достать тебя сама я не могу, но моя кума; крыса, что живет здесь на чердаке, прямо над тобою, она подточит доску, на которой ты стоишь, ты свалишься вниз, и я поймаю тебя в свой передник, чтобы ты не разбил себе носа и сберег свою гладкую рожицу, и понесу тебя поскорей к мамзель Веронике, на которой ты должен жениться, когда станешь надворным советником.
— Оставь меня, чертово детище! — закричал студент Ансельм, полный гнева. — Только твои адские штуки побудили меня к преступлению, которое я должен теперь искупать. Но я терпеливо буду переносить все, потому что я могу существовать только здесь, где дорогая Серпентина окружает меня любовью и утешением. Слушай, старуха, и оставь надежду. Не покорюсь я твоей силе; я люблю и буду вечно любить одну только Серпентину, — я никогда не буду надворным советником, никогда не увижу Веронику, которая через тебя соблазнила меня на зло. Если зеленая змея не будет моею, то я погибну от тоски и скорби. Прочь, прочь, гадкий урод!
Тут старуха захохотала так, что в комнате раздался звон, и воскликнула:
— Ну, так сиди тут и пропадай, а мне пора за дело, ведь у меня тут есть еще и другая работа! — Она сбросила свой черный плащ и осталась в отвратительной наготе, потом начала кружиться, и толстые фолианты падали вниз, а она вырывала из них пергаментные листы и, ловко и быстро сцепляя их один с другим и обвертывая вокруг своего тела, явилась как бы одетой в какой-то пестрый чешуйчатый панцирь. Брызжа огнем, выскочил черный кот из чернильницы, стоявшей на письменном столе, и завыл в сторону старухи, которая громко закричала от радости и вместе с ним исчезла в дверь. Ансельм заметил, что она направилась в голубую комнату, и скоро он услыхал вдали шипенье и гуденье, птицы в саду закричали, попугай затрещал: «Дер-р-ржи, дер-р-ржи, гр-рабеж, гр-рабеж!» В эту минуту старуха вернулась в комнату, держа в руках золотой горшок, и, отвратительно кривляясь и прыгая, дико закричала:
— В добрый час! В добрый час! Сынок, убей зеленую змею! Скорей, сынок, скорей!
Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышит голос Серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился О стекло — резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке.
— Гей, гей, сволочь! Ведьмины штуки — чертово наваждение! Эй, сюда, сюда! — так закричал он.
Тут черные волосы старухи стали как щетина; ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти, она зашипела: «Живо иди! Живо шипи!» — и захохотала и заблеяла в насмешку и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полные горсти блестящей земли в архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли; но когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» — закричала старуха, и черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса, но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос Серпентины воскликнул: «Спасен, спасен!» Старуха в бешенстве и отчаянии, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели, и затрещали, и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов, старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка, вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя, и, когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал, но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Гей, гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» — загремел по комнате голос архивариуса, и тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями мотались кругом в жестокой схватке кот и попугай; но наконец попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком; ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся; архивариус поднял шлафрок — под ним лежала гадкая свекла.
— Почтенный господин архивариус, вот вам побежденный враг, — сказал попугай, поднося в своем клюве архивариусу Линдгорсту черный волос.
— Хорошо, любезный, — отвечал архивариус, — а вот лежит и моя побежденная противница; позаботьтесь, пожалуйста, об остальном; сегодня же вы получите, как маленькую douceur[*], шесть кокосовых орехов и новые очки, так как ваши, я вижу, бессовестно разбиты котом.
[* Знак внимания (фр.).]
— Всегда к вашим услугам, достопочтенный друг и покровитель! — воскликнул довольный попугай и, взявши свеклу в клюв, вылетел в окошко, которое архивариус отворил для него. Архивариус схватил золотой горшок и громко закричал:
— Серпентина, Серпентина!
И когда студент Ансельм, радуясь победе архивариуса над мерзкой старухой, которая готова была его погубить, взглянул на него, он увидал опять величественную, высокую фигуру князя духов, смотрящего на него с несказанной приятностью и достоинством.
— Апсельм, — сказал князь духов, — не ты, но враждебное начало, стремившееся разрушительно проникнуть в твою душу и раздвоить тебя с самим тобою, виновно в твоем неверии. Ты доказал свою верность, будь свободен и счастлив!
Молния прошла внутри Ансельма, трезвучие хрустальных колокольчиков раздалось сильнее и могучее, чем когда-либо; его фибры и нервы содрогнулись, но все полнее гремел аккорд по комнате, — стекло, в которое был заключен Ансельм, треснуло, и он упал в объятия милой, прелестной Серпентины.
ВИГИЛИЯ ОДИННАДЦАТАЯ
Неудовольствие конректора Паульмана по поводу обнаружившегося в его семействе умоисступления. — Как регистратор Геербранд сделался надворным советником и в сильнейший мороз пришел в башмаках и шелковых чулках. — Признание Вероники. — Помолвка при дымящейся суповой миске.
— Но скажите же мне, почтеннейший регистратор, как это нам вчера проклятый пунш мог до такой степени отуманить головы и довести пас до таких излишеств? — так говорил конректор Паульман, входя на другое утро в комнату, еще наполненную разбитыми черепками и посредине которой несчастный парик, распавшийся на свои первоначальные элементы, плавал в остатках пунша.
Вчера, после того как студент Ансельм выбежал из дома, конректор Паульман и регистратор Геербранд стали кружиться по комнате, раскачиваясь и крича, точно одержимые бесом, и стукаясь головами друг о друга до тех пор, пока маленькая Френцхен не уложила с великим трудом исступленного папашу в постель, а регистратор не упал в совершенном изнеможении на софу, с которой вскочила Вероника, убежавшая в свою спальню. Регистратор Геербранд обвязал голову синим платком, был весьма бледен, меланхоличен и стонал:
— Ах, дорогой конректор, не пунш, который mademoiselle Вероника приготовила превосходно, нет, один только проклятый студент виноват во всем этом безобразии. Разве вы не замечаете, что он уже давно mente captus?[*] И разве вы не знаете также, что сумасшествие заразительно? «Один дурак плодит многих» — извините, это старая пословица; особенно когда выпьешь стаканчик вместе с таким сумасшедшим, то легко сам впадаешь в безумие и маневрируешь, так сказать, непроизвольно подражая всем его экзерцициям. Поверите ли, конректор, что у меня просто голова кружится, когда я подумаю о сером попугае?
[* Сумасшедший (лат.).]
— Что за вздор! — отвечал конректор. — Ведь это был маленький старичок, служитель архивариуса, пришедший в своем сером плаще за студентом Ансельмом.
— Может быть! — сказал регистратор Геербранд. — Но я должен признаться, что у меня на душе совсем скверно; всю ночь здесь что-то такое удивительно наигрывало и насвистывало.
— Это был я, — возразил конректор, — ибо я храплю весьма сильно.
— Может быть! — продолжал регистратор. — Но, конректор, конректор! не без причины позаботился я вчера приготовить нам некоторое удовольствие, и Ансельм все мне испортил… Вы не знаете… О конректор, конректор! — Регистратор Геербранд вскочил, сорвал платок с головы, обнял конректора, пламенно пожал ему руку, еще раз воскликнул сокрушенным голосом: — О конректор, конректор! — и быстро выбежал вон, схватив шляпу и палку.
«Ансельма теперь и на порог к себе не пущу, — сказал конректор Паульман сам себе, — ибо я вижу теперь ясно, что он своим скрытым сумасшествием лишает лучших людей последней капли рассудка; регистратор вот уже попался — я еще пока держусь, но тот дьявол, что так сильно стучался во время вчерашней попойки, может наконец ворваться и начать свою игру. Итак, apage, Satanas![*] Прочь, Ансельм!»
[* Изыди, сатана! (лат.)]
Вероника стала задумчивой, не говорила ни слова, только по временам очень странно улыбалась и всего охотнее оставалась одна. «И эта у Ансельма на душе, — со злобою сказал конректор, — хорошо, что он совсем не показывается; я знаю, что он меня боится, этот Ансельм, поэтому и не приходит». Последние слова конректор Паульман произнес совершенно громко; у Вероники, которая при этом присутствовала, показались слезы на глазах, и она сказала со вздохом:
— Ах, разве Ансельм может прийти? Ведь он уже давно заперт в стеклянной банке.
— Как? Что? — воскликнул конректор Паульман. — Ах, боже, боже! Вот и она уж бредит, как регистратор; скоро дойдет, пожалуй, до кризиса. Ах ты, проклятый, мерзкий Ансельм! — Он тотчас же побежал за доктором Экштейном, который улыбнулся и сказал опять: «Ну! ну!» — но на этот раз ничего не прописал, а, уходя, прибавил к своему краткому изречению еще следующее:
— Нервные припадки, — само пройдет, на воздух — гулять, развлекаться — театр — «Воскресный ребенок», «Сестры из Праги», — пройдет!
«Никогда доктор не был таким красноречивым, — подумал конректор Паульман, — просто болтлив!» Прошло много дней, недель, месяцев; Ансельм исчез, но и регистратор Геербранд не показывался, как вдруг 4 февраля, ровно в двенадцать часов дня, он вошел в комнату копректора Паульмана в новом, отличного сукна и модного фасона платье, в башмаках и шелковых чулках, несмотря на сильный мороз, и с большим букетом живых цветов в руках. Торжественно приблизился он к изумленному его нарядом конректору, обнял его деликатнейшим манером и проговорил:
— Сегодня, в день именин вашей любезной и многоуважаемой дочери mademoiselle Вероники, я хочу прямо высказать все, что уже давно лежит у меня на сердце! Тогда, в тот злополучный вечер, когда я принес в кармане своего сюртука ингредиенты для пагубного пунша, я имел в мыслях сообщить вам радостное известие и в веселии отпраздновать счастливый день. Уже тогда я узнал, что произведен в надворные советники; ныне же я получил и надлежащий патент на сие повышение cum nomine et sigillo principis[*], каковой и храню в своем кармане.
[* С именем и печатью государя (лат.).]
— Ах, ах! господин регистр… господин надворный советник Геербранд, хотел я сказать, — пробормотал конректор.
— Но только вы, почтеннейший конректор, — продолжал новопроизведенный надворный советник Геербранд, — только вы можете довершить мое благополучие. Уже давно любил я втайне mademoiselle Веронику и могу похвалиться с ее стороны не одним дружелюбным взглядом, который мне ясно показывает, что и я ей не противен. Короче, почтенный конректор, я, надворный советник Геербранд, прошу у вас руки вашей любезной дочери mademoiselle Вероники, с которою я и намерен, если вы не имеете ничего против, в непродолжительном времени вступить в законное супружество.
Конректор Паульман в изумлении всплеснул руками и воскликнул:
— Эй, эй, эй, господин регистр… господин надворный советник, хотел я сказать, кто бы это подумал? Ну, если Вероника в самом деле вас любит, я с своей стороны не имею ничего против; может быть, даже под ее теперешней меланхолией лишь скрывается страсть к вам, почтеннейший надворный советник? Знаем мы эти штуки!
В это мгновение вошла Вероника, по обыкновению бледная и расстроенная. Надворный советник Геербранд подошел к ней, упомянул в искусной речи об ее именинах и передал ей ароматный букет вместе с маленькой коробочкой, из которой, когда она ее открыла, засверкали блестящие сережки. Внезапный румянец показался па ее щеках, глаза загорелись живее, и она воскликнула:
— Ах, боже мой, ведь это те самые сережки, которые я надевала и которым радовалась несколько месяцев тому назад!
— Как это возможно, — вступился надворный советник Геербранд, нисколько сконфуженный и обиженный, — когда я только час тому назад купил это украшение в Замковой улице за презренные деньги?
Но Вероника уже не слушала, она стояла перед зеркалом и проверяла эффект сережек, которые вдела в свои маленькие ушки. Конректор Паульман с важной миной возвестил ей повышение Друга Геербранда и его предложение. Вероника проницательным взглядом посмотрела на надворного советника и сказала:
— Я давно знала, что вы хотите на мне жениться. Что ж, пусть так и будет! Я обещаю вам сердце и руку, но я должна вам сначала, — вам обоим: отцу и жениху, — открыть многое, что тяжело лежит у меня на душе, я должна вам это сказать сейчас же, хотя бы остыл суп, который Френцхен, как я вижу, ставит на стол. — И, не дожидаясь ответа конректора и надворного советника, хотя у них, очевидно, слова уже были на языке, Вероника продолжала: — Вы можете мне поверить, любезный батюшка, что я всем сердцем любила Ансельма, и когда регистратор Геербранд, который теперь сам сделался надворным советником, уверил нас, что Ансельм может достигнуть того же чина, я решила, что он, и никто другой, будет моим мужем. Но тут оказалось, что чуждые, враждебные существа хотят его вырвать у меня, и я прибегла к помощи старой Лизы, которая прежде была моей няней, а теперь сделалась ворожеей, великой колдуньей. Она обещала мне помочь и совершенно отдать Ансельма в мои руки. Мы пошли с нею в полночь осеннего равноденствия на перекресток; она заклинала там адских духов, и с помощью черного кота мы произвели маленькое металлическое зеркало, в которое мне достаточно было посмотреть, направляя свои помыслы на Ансельма, чтобы совершенно овладеть его чувствами и мыслями. Но теперь я сердечно в этом раскаиваюсь и отрекаюсь от всех сатанических чар. Саламандр победил старуху; я слышала ее вопли, но помочь было нечем; когда попугай съел ее как свеклу, мое металлическое зеркало с треском разбилось. — Вероника вынула из рабочей коробки куски разбитого зеркала и локон и, подавая то и другое надворному советнику Геербранду, продолжала: — Вот вам, возлюбленный надворный советник, куски зеркала, бросьте их нынче в полночь с Эльбского моста, оттуда, где стоит крест, в прорубь, а локон сохраните на вашей верной груди. Я еще раз отрекаюсь от всех сатанических чар и сердечно желаю Ансельму счастья, так как он теперь сочетался с зеленой змеей, которая гораздо красивее и богаче меня. А я буду вас, любезный надворный советник, любить и уважать, как хорошая жена.
— Ах, боже, боже! — воскликнул конректор Паульман, преисполненный скорби. — Она сумасшедшая, она сумасшедшая, она никогда не может быть надворной советницей, она сумасшедшая!
— Нисколько, — возразил надворный советник Геербранд, — мне известно, что mademoiselle Вероника питала некоторую склонность к помешавшемуся Ансельму и, может быть, в припадке увлечения, так сказать, она и обратилась к колдунье, которая, по-видимому, есть не кто иная, как известная гадальщица от Озерных ворот, старуха Рауэрин. Трудно также отрицать существование тайных искусств, могущих производить на человека весьма зловредное действие, о чем мы читаем уже у древних, а что mademoiselle Вероника говорит о победе Саламандра и сочетании Ансельма с зеленой змеею — это, конечно, есть только поэтическая аллегория, некоторая, так сказать, поэма, в которой она воспела свой окончательный разрыв со студентом.
— Считайте это за что хотите, любезный надворный советник, — сказала Вероника, — хоть за нелепый сон, пожалуй.
— Отнюдь нет, — возразил надворный советник Геербранд, — ибо я знаю, что и студент Ансельм одержим тайными силами, возбуждающими и подстрекающими его ко всевозможным безумным выходкам.
Конректор Паульман не мог долее удерживаться, его прорвало:
— Постойте, ради бога, постойте! Напились мы, что ли, опять проклятого пуншу или действует на нас сумасшествие Ансельма? Господин надворный советник, что за чепуху вы опять городите? Впрочем, я хочу думать, что это только любовь затемняет ваш рассудок; ну, после свадьбы это скоро пройдет, а то я боялся бы, что вы впадете в некоторое безумие, и можно было бы иметь опасения за потомство, — не наследовало бы оно родительского недуга. Ну, я даю вам отцовское благословение на радостное сочетание и позволю вам как жениху и невесте поцеловать друг друга.
Что и было тотчас же исполнено, и, прежде чем простыл принесенный суп, формальная помолвка была заключена. Несколько недель спустя госпожа надворная советница Геербранд сидела действительно, как она себя прежде видела духовными очами, у окна в прекрасном доме па Новом рынке и, улыбаясь, смотрела на мимоходящих щеголей, которые, лорнируя ее, восклицали: «Что за божественная женщина надворная советница Геербранд!»
ВИГИЛИЯ ДВЕНАДЦАТАЯ
Известие об имении, доставшемся студенту Ансельму как зятю архивариуса Линдгорста, и о том, как он живет там с Серпентиною. — Заключение.
Как глубоко я чувствовал в душе своей высокое блаженство Ансельма, который, теснейшим образом соединившись с прелестною Серпентиной, переселился в таинственное, чудесное царство, в котором он признал свое отечество, по которому уже так давно тосковала его грудь, полная странных стремлений и предчувствий. Но тщетно старался я тебе, благосклонный читатель, хотя несколько намекнуть словами на те великолепия, которыми теперь окружен Ансельм. С отвращением замечал я бледность и бессилие всякого выражения. Я чувствовал себя погруженным в ничтожество и мелочи повседневной жизни; я томился в мучительном недовольстве; я бродил в какой-то рассеянности; короче, я впал в то состояние студента Ансельма, которое я тебе, благосклонный читатель, описал в четвертой -вигилии.
Я очень мучился, пересматривая те одиннадцать, которые благополучно окончил, и думал, что, верно, мне уж никогда не будет дано прибавить двенадцатую в качестве завершения, ибо каждый раз, как я садился в ночное время, чтобы докончить мой рассказ, казалось, какие-то лукавые духи (может быть, родственники, пожалуй, разные cousins germains убитой ведьмы) подставляли мне блестящий, гладко полированный металл, в котором я видел только свое «я» — бледное, утомленное и грустное, как регистратор Геербранд после попойки. Тогда я бросал перо и спешил в постель, чтобы, по крайней мере, во сне видеть счастливого Ансельма и прелестную Серпентину. Так продолжалось много дней и ночей, как вдруг я совершенно неожиданно получил следующую записку от архивариуса Линдгорста: «Ваше благородие, как я известился, вы описали в одиннадцати вигилиях странные судьбы моего доброго зятя, бывшего студента, а в настоящее время — поэта Ансельма, и бьетесь теперь над тем, чтобы в двенадцатой и последней вигилии сказать что-нибудь о его счастливой жизни в Атлантиде, куда он переселился с моею дочерью в хорошенькое поместье, которым я владею там. Хотя я не совсем доволен, что вы открыли читающей публике мою настоящую природу, так как это может подвергнуть меня тысяче неприятностей на службе и даже возбудить в государственном совете спорный вопрос: может ли Саламандр под присягою и с обязательными по закону последствиями быть принят на государственную службу и можно ли вообще поручать таковому солидные дела, так как, по Габалису и Сведенборгу, стихийные духи вообще не заслуживают доверия; хотя может также произойти и то, что теперь мои лучшие друзья будут избегать моих объятий из опасения внезапного, для париков и фраков пагубного, воспламенения; несмотря на все это, я хочу помочь вашему благородию в окончании вашего рассказа, так как в нем заключается много доброго обо мне и о моей любезной замужней дочери. (Как хотел бы я и двух остальных также сбыть с рук!) Поэтому, если вы хотите написать двенадцатую вигилию, то оставьте вашу каморку, спуститесь с вашего проклятого пятого этажа и приходите ко мне. В известной уже вам голубой пальмовой комнате вы найдете все письменные принадлежности, и затем вам можно будет в немногих словах сообщить читателям то, что вы сами увидите, и это гораздо лучше, чем пространно описывать такую жизнь, которую вы ведь знаете только понаслышке. С совершенным почтением, вашего благородия покорный слуга Саламандр Линдгорст, королевский тайный архивариус».
Эта несколько грубая, но все-таки дружелюбная записка архивариуса Линдгорста была мне в высшей степени приятна. Хотя, по-видимому, чудной старик знал, каким странным способом мне стали известны судьбы его зятя, — о чем я, обязавшись тайною, должен умолчать даже и перед тобою, благосклонный читатель, — но он не принял этого так дурно, как я мог опасаться. Он сам предлагал руку помощи для окончания моего труда, и отсюда я имел право заключить, что он, в сущности, согласен, чтобы его чудесное существование в мире духов огласилось посредством печати. Может быть, думал я, он даже почерпнет отсюда надежду скорее выдать замуж остальных своих дочерей, потому что, может быть, западет искра в душу того или другого юноши и зажжет в ней тоску по зеленой змее, которую он затем, в день вознесения, поищет и найдет в кусте бузины. Несчастие же, постигшее студента Ансельма, его заключение в стеклянную банку, послужит новому искателю серьезным предостережением хранить себя от всякого сомнения, от всякого неверия. Ровно в одиннадцать часов погасил я свою лампу и пробрался к архивариусу Линдгорсту, который уже ждал меня на крыльце.
— А, это вы, почтеннейший! Ну, очень рад, что вы не отвергли моих добрых намерений, идемте! — И он повел меня через сад, полный ослепительного блеска, в лазурную комнату, где я увидел фиолетовый письменный стол, за которым некогда работал Ансельм. Архивариус Линдгорст исчез, но тотчас же опять явился, держа в руке прекрасный золотой бокал, из которого высоко поднималось голубое потрескивающее пламя. — Вот вам, — сказал он, — любимый напиток вашего друга, капельмейстера Иоганнеса Крейслера. Это — зажженный арак, в который я бросил немножко сахару. Отведайте немного, а я сейчас скину мой шлафрок, и в то время как вы будете сидеть и смотреть и писать, я, для собственного удовольствия и вместе с тем чтобы пользоваться вашим дорогим обществом, буду опускаться и подниматься в бокале.
— Как вам угодно, досточтимый господин архивариус, — возразил я, — но только, если вы хотите, чтобы я пил из этого бокала, пожалуйста, не…
— Не беспокойтесь, любезнейший! — воскликнул архивариус, быстро сбросил свой шлафрок и, к моему немалому удивлению, вошел в бокал и исчез в пламени. Слегка отдувая пламя, я отведал напиток — он был превосходен!
С тихим шелестом и шепотом колеблются изумрудные листья пальм, словно ласкаемые утренним ветром. Пробудившись от сна, поднимаются они и таинственно шепчут о чудесах, как бы издалека возвещаемых прелестными звуками арфы. Лазурь отделяется от стен и клубится ароматным туманом туда и сюда, по вот ослепительные лучи пробиваются сквозь туман, и он как бы с детскою радостью кружится и свивается и неизмеримым сводом поднимается над пальмами. Но все ослепительнее примыкает луч к лучу, и вот в ярком солнечном блеске открывается необозримая роща, и в ней я вижу Ансельма. Пламенные гиацинты, тюльпаны и розы поднимают свои прекрасные головки, и их ароматы ласковыми звуками восклицают счастливцу: «Ходи между нами, возлюбленный, ты понимаешь нас, наш аромат есть стремление любви, мы любим тебя, мы твои навсегда!» Золотые лучи горят в пламенных звуках: «Мы — огонь, зажженный любовью. Аромат есть стремление, а огонь есть желание, и не живем ли мы в груди твоей? Мы ведь твое собственное желание!» Шумят и шепчут темные кусты, высокие деревья: «Приди к нам, счастливый возлюбленный! Огонь есть желание, но надежда — наша прохладная тень. Мы с любовью будем шептаться над тобою, потому что ты нас понимаешь, потому что любовь живет в груди твоей». Ручьи и источники плещут и брызжут: «Возлюбленный, не проходи так скоро, загляни в нас, здесь живет твой образ, мы любовно храним его, потому что ты нас понял». Ликующим хором щебечут и поют пестрые птички: «Слушай нас, слушай нас! Мы — радость, блаженство, восторг любви!» Но с тихой тоскою смотрит Ансельм на великолепный храм, что возвышается вдали. Искусные колонны кажутся деревьями, капители и карнизы — сплетающимися акантовыми листами, которые, сочетаясь в замысловатые гирлянды и фигуры, дивно украшают строение. Ансельм подходит к храму, с тайным блаженством взирает на удивительно испещренный мрамор ступеней… «Нет! — восклицает он в избытке восторга, — она уже недалеко!» И вот выходит в величавой красоте и прелести Серпентина изнутри храма; она несет золотой горшок, из которого выросла великолепная лилия. Несказанное блаженство бесконечного влечения горит в прелестных глазах; так смотрит она на Ансельма и говорит: «Ах, возлюбленный! лилия раскрыла свою чашечку, высочайшее исполнилось, есть ли блаженство, подобное нашему?» Ансельм обнимает ее в порыве горячего желания; лилия пылает пламенными лучами над его головою. И громче колышутся деревья и кусты; яснее и радостнее ликуют источники; птицы, пестрые насекомые пляшут и кружатся; веселый, радостный, ликующий шум в воздухе, в водах, па земле — празднуется праздник любви! Молнии сверкают в кустах, алмазы, как блестящие глаза, выглядывают из земли; высокими лучами поднимаются фонтаны, чудные ароматы веют, шелестя крылами, — это стихийные духи кланяются лилии и возвещают счастье Ансельма. Он поднимает голову, озаренную лучистым сиянием. Взоры ли это? слова ли? пение ли? Но ясно звучит: «Серпентина! вера в тебя и любовь открыли мне сердце природы! Ты принесла мне ту лилию, что произросла из золота, из первобытной силы земной, еще прежде, чем Фосфор зажег мысль, — эта лилия есть видение священного созвучия всех существ, и с этим выдением я буду жить вечно в высочайшем блаженстве. Да, я, счастливец, познал высочайшее: я буду вечно любить тебя, о Серпентина! Никогда не поблекнут золотые лучи лилии, ибо с верою и любовью познание вечно!» [*]
[* Здесь кончается перевод В. С. Соловьева. Заключительные абзацы переведены А. В. Федоровым. — Ред.]
Видением, благодаря которому я узрел студента Ансельма живым, в его имении в Атлантиде, я обязан чарам Саламандра, и дивом было то, что, когда оно исчезло как бы в тумане, все это оказалось аккуратно записанным на бумаге, лежавшей передо мной на лиловом столе, и запись как будто была сделана мною же. Но вот меня пронзила и стала терзать острая скорбь: «Ах, счастливый Ансельм, сбросивший бремя обыденной жизни, смело поднявшийся на крыльях любви к прелестной Серпентине и живущий теперь блаженно и радостно в своем имении в Атлантиде! А я, несчастный! Скоро, уже через каких-нибудь несколько минут, я и сам покину этот прекрасный зал, который еще далеко не есть то же самое, что имение в Атлантиде, окажусь в своей мансарде, и мой ум будет во власти жалкого убожества скудной жизни, и, словно густой туман, заволокут мой взор тысячи бедствий, и никогда уже, верно, не увижу я лилии». Тут архивариус Линдгорст тихонько похлопал меня по плечу и сказал:
— Полно, полно, почтеннейший! Не жалуйтесь так! Разве сами вы не были только что в Атлантиде и разве но владеете, вы там, по крайней мере, порядочной мызой как поэтической собственностью вашего ума? Да разве и блаженство Ансельма есть не что иное, как жизнь в поэзии, которой священная гармония всего сущего открывается как глубочайшая из тайн природы!