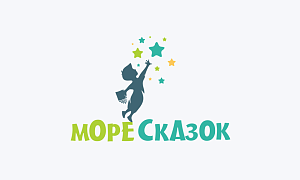Уставший маяться бездельем хан придумал хитрое испытание для своих подданных: человеку, способному рассказать без запинки целых 72 небылицы, он решил отдать в жёны собственную дочь с богатым приданым, но проигравшим обещал суровое наказание. Кто дерзнёт исполнить необычное ханское повеление и поразит его искусством выдумки?
В калмыцкой степи, где молва, как стрела,
Жил некогда хан вероломного нрава.
На выданье дочь у владыки была,
Такая ходила о дочери слава:
Для ханских сынов – некрасива с лица,
Глупа для сынов мудреца.
Не ездили в дом с угощеньем сваты,
Не ладилось дело никак:
Смотреть не хотел на невесту богатый,
И ханского гнева боялся бедняк.
Известно: кто дразнит собаку, порой
С разорванной может остаться полой,
Кто водится с ханом, с нойоном – увы,
Останется без головы.
Увидев, что дочь начинает стареть,
Владетельный хан объявил из столицы:
"И дочь я отдам, и страны моей треть
Тому, кто во имя знатнейшей девицы
Расскажет мне семьдесят две небылицы".
Услышали два бедняка тот приказ,
А были то сын и отец,
И оба явились к владыке тотчас,
Чтоб счастье найти наконец.
Повёл свою повесть старик смуглолицый,
До семьдесят первой дошёл небылицы,
А дальше придумать не мог ничего,
С позором прогнали его.
Тут начал рассказывать сын бедняка:
"Родился я раньше отца-старика,
Я прадеда пас табуны.
Случилось, что в полдень, средь жаркого лета,
При ярком сиянии полной луны,
Пропал мой табун, затерялся он где-то.
Я радуюсь этой нежданной беде,
Я думаю: как же унять мои слёзы?
И сразу я шест смастерил из берёзы,
(Она не росла никогда и нигде),
К шесту прикрепил я, на выдумку ловкий,
Аркан из не свитой покуда верёвки,
И в ясное утро палящего дня,
Когда на лету замерзали вороны,
Вскочил я в седло и погнал я коня,
А был он соловый, ещё не рождённый.
Коней отыскать – такова моя цель,
Не надо такому дивиться поступку!
Проехал я много недель,
Проехал я много земель,
А вот – не успел даже выкурить трубку!
Под ливнем я мок,
Что не лил до поры,
От стужи я дрог
Средь жестокой жары!
Я думал: умру посредине пути,
И я оглянулся вокруг.
Признаться, колодец мечтал я найти,
И что же увидел я вдруг?
Вдали, где вершины зима заморозила,
На склоне горы, на крутом и зелёном,
Плескалось широкое синее озеро.
Я взглядом взглянул на него удивлённым:
Бурлил и дымился прибрежный поток,
Вода по краям – не вода, кипяток,
Зато середина охвачена льдом,
Кто это не видел, поверит с трудом!
Отъехав немного назад по равнине,
Коню приказал я: - Вперёд!
И в озеро – прыг! Я теперь – посредине,
Кругом – только синий, сверкающий лёд.
Ударил я плетью, да что там смотреть:
Сверкающий лёд не берёт моя плеть.
Ударил ногою и топнул другой,
Но крепок по-прежнему лёд под ногой.
Что ж, нет для меня положенья тяжёлого,
Я выход повсюду найду.
Я снял свою голову, сильную голову,
И в гневе ударил по льду.
Отверстье во льду появилось тогда,
Ключом из отверстья забила вода.
Холодная влага была мне приятна,
Напился, и стало на сердце легко,
И я перепрыгну на берег обратно,
И я поскакал далеко-далеко.
При солнце скачу, при сиянии звёзд.
Куда же скачу? Молчок!
Проехал я, может быть, тысячу вёрст,
Решил: закурю табачок.
И радостно я достаю
Кленовую трубку свою,
Что схожа была с головою верблюда,
Мундштук прикрепил – настоящее чудо,
Он равен был кости берцовой быка, –
Хорошую сделал когда-то покупку!
Я несколько всыпал мешков табака,
Но только поднёс я ко рту свою трубку,
Но только её захотел раскурить, –
А рта нет на месте!
Вот штука, так штука, скажу я по чести...
Сказал бы, да чем говорить?
Я был в затруднении тяжком.
Эх, вспомнил, себя я ударил по ляжкам:
На озере воду я чистую пил,
На озере голову я позабыл!
Что ж, надо назад возвратиться сперва,
Поеду – какая мне разница?
Смотрю, – мне кивает моя голова,
При этом смеётся, проказница.
- Дружище! – кричит голова, балагурит, –
Видать, безголовые люди не курят?
А я-то молчала нарочно!
Как только меня ты оставил на льду,
Подумала: с ним-то мы связаны прочно,
Пускай он поедет, а я подожду:
Вернётся, ещё не лишился рассудка!
Конечно, я только шутила, поверь, –
Надеюсь, поможет тебе эта шутка:
Меня ты вовек не забудешь теперь!
- Эгей, что с тобой? – я вскричал сам не свой.
Случилось несчастье с моей головой:
На самой макушке, вонзив в неё жала,
Две тысячи мух восседали у всех на виду,
Головушка, видно, примёрзла ко льду,
Примёрзла, уже не дрожала.
Тяну я, тяну свою голову глупую,
Но крепко примёрзла шальная,
За что ухватиться – никак не нащупаю,
Сама-то смеётся, помочь не желая.
Разгневавшись, голову пнул я ногой,
Она подскочила разок и другой,
И тоже, видать, на меня рассердилась,
К прибрежной кипящей воде покатилась.
Всё катится, катится, весело дразнится,
И зубы-то скалит, проказница!
С трудом я догнал её, мух отряхнул,
Чуть-чуть отдохнул,
Всю жаркую силу собрал я в руке,
Три раза ударил по левой щеке,
Три раза ударил по правой щеке,
Чтоб глупые шутки оставила,
Навеки запомнила правило:
Послушною быть моей шее!
На место её водворив поскорее,
Пришёл я в себя, посмотрел я с отвагой вперёд,
Кленовую трубку вложил себе в рот.
Мне льдинка тогда заменила огниво,
Пригоршня воды заменила мне трут,
И вспыхнула искра весёлая живо,
И сладким дымком затянулся я тут,
И небо от этого дыма ослепло,
И столько рассыпал я пепла,
Что выросли горные скалы за мной.
Я дальше поехал дорогой степной.
Как только скакун мой шагнёт, –
Четырнадцать вёрст отмахнёт.
Однажды, когда я спускался с пригорка,
Всмотрелся я зорко:
Долина была надо мною вдали
Вся в жёлтой пыли.
Услышал я шум непонятный и дикий,
Ужасные вопли, истошные крики.
Убийственный шум был таков,
Как будто дрались и ревели сто буйных быков.
Спустившись, я понял: тот гул стоголосый
Безумные подняли осы.
Их тысяча было, они меж собой
Вступили в смертельный, бессмысленный бой.
- Ответствуй мне, что происходит у ос? –
Я тоненькой осочке задал вопрос.
Оса молодая,
Сказала, рыдая:
- Делиться решили мы разом,
И вот – разделиться не можем никак…
У осочки этой под глазом
Виднелся огромный синяк:
Как видно, достался ей крепкий тумак!
Ко мне устремились гудящие осы,
Крича и ругаясь на все голоса.
- О, странник разумный, – сказала оса
(То был их старейшина седоволосый,
Увидел я, что у почтенной осы
Противники вырвали в драке усы),
- Ты нас раздели. Ты лукавить не будешь,
Мы верим, по совести нас ты рассудишь.
Когда оказали мне осы почёт,
Сперва их добру произвёл я подсчёт,
Потом приступил к дележу.
Судил я по совести, прямо скажу:
Я праздным, ленивым – побольше давал,
А трудолюбивым – поменьше давал:
Так водится в жизни с неведомых пор!
Упрямые осы закончили спор,
Помог я советом и словом.
Они разошлись, примирённые мной,
А я поскакал на соловом.
Внезапно я крик услыхал за спиной:
- О странник почтенный и витязь,
Помедлите, остановитесь!
Узнал я, что осы, поспорив немного,
Решили меня наградить за труды:
За то, что я вызволил их из беды,
За то, что судил справедливо и строго,
Мне выдали муху, – награду немалую,
Притом четырёхгодовалую!
Та муха была молодцом
И нрава не вялого.
Три года ходила красавица яловой,
И жира немало скопила над самым крестцом:
Три пальца – его толщина.
Была она спереди шире:
Наверно, пальца четыре
Под лапками жира скопила она.
Хотя и черна, да жирна!
Я муху, довольный подарком нежданным,
Тотчас заарканил калмыцким арканом,
К седлу привязал её, к задней луке,
И дальше помчался я с плетью в руке.
Приблизившись к голой вершине вплотную,
Подумал: - Мой разум недаром остёр,
Здесь ветер не дует, я здесь заночую.
Из таволги влажной развёл я костёр,
Ещё не нарезав, снял шкуру я с мухи,
Не сняв ещё шкуры с толстухи,
Я жирную стал потрошить.
- А дальше мне как поступить?
Решив: потрошить ни к чему,
Я муху в котёл опустил.
Зачем опускать? Не пойму!
Я муху свою вскипятил.
Решив: кипятить ни к чему,
Вытаскивать стал из воды.
Решив, что мне лучшей не надо еды,
Не вытащив, – съел.
Не съев, я набил своё брюхо:
Вкусна была муха!
И, вытерев руки о правый сапог,
На отдых прилёг,
Как мокрый ремень, растянулся.
Ещё не уснул,
А проснулся:
Ужасный послышался гул.
Нарушив безмолвье ночное,
Боролись, барахтались двое.
Я пристально, зорко взглянул,
Недаром глазами я – кречет:
- Да кто ж там друг друга калечит?
Да кто эти два незнакомых врага?
И что же? Дрались два моих сапога!
- Не вместе ли мы изнывали от зноя, –
Кричал, задыхаясь, мой левый сапог, –
Не вместе ли шли мы, не зная покоя,
Не вместе ль дышали мы пылью дорог,
И грязь нас трепала, и вьюга хлестала, –
Каков же итог?
Хозяин тебя накормил до отвала,
А мной пренебрёг.
Я думал: моя беда – это твоя беда,
Но ты меня предал тайком.
Так вот тебе, вот тебе, ябеда, ябеда!
Так левый сапог мой, сухим каблуком
Собрата в носок ударяя,
Бранился, удары свои повторяя.
Терпеть уже дальше не мог
Мой правый сапог.
Решил на противника броситься,
Ударить его в переносицу.
Но с места поднялся и крикнул я грозно:
- А ну, прекратите, покуда не поздно,
Не то не дождётесь вы светлого дня,
Вы примете смерть от меня!
Мои сапоги замолчали угрюмо.
Почуяв испуг,
Но вновь на рассвете от странного шума
Проснулся я вдруг:
То ножны с моим воевали ножом.
- Не мы ли тебя бережём
От ливня и ветра, от зноя и холода,
Чтоб вечно блистал ты и жарко, и молодо?
С тобой породнились не на день, не на год, –
Нас общая участь друг к другу влечёт,
Мы гнёмся под бременем жизненных тягот,
Чтоб только не знал ты забот.
Ты горд остротой своего лезвия,
Но гордость куда бы девалась твоя,
Когда б не товарищ надёжный –
Железные, честные ножны.
Но дожили мы до позорного часа:
Презренный доносчик и плут,
Поел ты хозяйского жирного мяса, –
У нас только слюнки текут!
И ножны стучали ребром по ножу,
Но я закричал: - Бросьте драться друг с другом,
Иначе сурово я вас накажу!
И ножны замолкли, объяты испугом,
А нож ничего не промолвил в ответ.
Не выспался я, а проснулся чуть свет.
Ещё не успел я одеться,
Увидел: пропал мой нож и сапог.
И долго я вспомнить не мог:
Куда же могли они деться?
Но вспомнил потом, погрузясь в размышленье,
Что свадьбу играют в соседнем селенье.
«Где свадьба – туда направляется гость,
Где свадьба – туда направляется кость,
Что за десять лет на ветру просушилась», –
Такое присловье в народе сложилось.
Что же, нечего делать! Вздохнув тяжело,
Отправился к юрте, где пиршество шло.
Я в щель заглянул, отодвинув кошму,
И вижу: одно к одному,
Расставлены яства на пышном ковре, –
Гора на горе!
А нож мой расхаживает по ковру,
Как видно, он старший на этом пиру,
Трепещут пред ним, заправилой изранены,
Говядины туши и туши баранины,
Огромный кусок за куском он отваливает
И мясо похваливает.
А кравчим на пиршестве был мой сапог.
Арзу наливал он в широкие чаши,
Чтоб каждый в душе своей радость разжёг,
Чтоб сделался пир веселее и краше.
К гостям наклонялся он правым ушком
И, важный, лоснился от жира,
И пел он, притоптывая каблуком,
Йоряли весёлого пира.
Меня увидали мой нож и сапог
И мне улыбнулись приветно,
Я понял, что эта улыбка – намёк,
И в юрту вошёл незаметно,
И тихо и скромно я сел у дверей,
А нож и сапог, поскорей, поскорей,
Скача под ногами стоящих,
Скользя меж руками сидящих,
Ко мне устремились, у них улыбались глаза,
Они прихватили бурдюк, где бурлила арза,
И заднюю ляжку коровы.
Бурдюк осушил я, и мясо я съел,
Других у меня здесь и не было дел, –
И вот беглецы услыхали приказ мой суровый:
- За мною! Пропавший табун я обязан найти!
Мне суслики встретились вдруг на пути.
Был праздник. Надев дорогие наряды,
Они в деревянный входили хурул.
И дверь отворилась, и я заглянул, –
Увидел я пламя лампады:
Горела сухая трава.
Повёл я такие слова:
- Вы добрые люди, быть может, встречали
Табун светло-пегих коней?
Мне суслики разом в ответ запищали:
- Встречали, встречали! Не ведай печали
Об этой пропаже своей, –
На север твои скакуны побежали!
На север помчался я, ветра быстрей,
Достиг я вершины, взобравшись на гору, –
И что предстаёт удивлённому взору?
Тьмы-тьмущие зайцев, зайчих и зайчат
На лапочках задних сидят,
И ножницы блещут над каждым зайчишкой:
Друг друга стригут они ровною стрижкой.
Я двинулся к ним и спросил у косых:
- Вы, добрые люди, быть может, встречали
Коней светло-пегих моих?
- Встречали, встречали, – они отвечали, –
Твои скакуны побежали на юг,
Пропажа отыщется, друг!
У зайцев я выпросил шерсти немного, –
Она для чулок хороша,
На юг я спустился с крутого отрога,
Зелёным привольем дыша.
И вот муравей-работяга
Встречается мне у оврага.
Я вижу, работа его нелегка:
Пшеницы взвалил на себя два мешка.
- Эгей, муравей,
Погоди, не робей,
Куда ты идёшь? – я вопрос задаю.
- Иду на базар, –
Муравей мне сказал,
И в путь я пустился вослед муравью.
Пришёл на базар я, а делать мне нечего,
Брожу по базару до самого вечера.
Как весело, шумно, пестро на базаре,
Там столько ткани и всякие твари,
Таим столько диковинных всяких вещей!
Гуляю средь мяса, плодов, овощей,
И вижу пшеницы мешок,
Хмельной муравей с ним валяется рядом.
- Скажи, что с тобою, дружок? –
Спросил я, взглянув укоризненным взглядом.
- А ну, проходи поживей,
Тебе-то какое, брат, дело?
Да, выпил я, значит, мне время приспело! –
В ответ закричал на меня муравей.
- Я продал пшеницы мешок на базаре,
Приятелей встретил, друзей,
И вот – веселюсь, я сегодня в ударе! –
Он брызгал слюною и стукался лбом:
- Пшеницу своим добывал я горбом,
На кровные денежки пью!
От этого зрелища стало мне больно,
В ответ ничего не сказав муравью,
Отправился дальше дорогой привольной, –
Нигде не нашёл табуна.
Глухая была сторона,
А полночь темна.
Забравшись в густую лощину,
Увидел я дерево, сгнившее наполовину.
Коня привязав, я на отдых прилёг,
А сон у меня был глубок.
Меня разбудили рассветные зори.
Проснулся – вот горе, так горе!
Смотрю – и не верится мне:
Верхом на моём нерождённом коне
Увидел я дерево, сгнившее наполовину!
Оно поскакало, – одну лишь заметил я спину, –
И скрылось вдали,
За краем небес и земли.
Его не догнать, не развеять невзгоду, –
Кто может помочь мне теперь, пешеходу?
Побрёл я пешком по дороге степной,
К полудню усилился зной.
Гляжу я – стоит вдалеке, застывая,
Тоскующих дроф большекрылая стая,
Средь знойного лета дрожа от бессилья,
Сложив свои оледеневшие крылья.
Я шест из берёзы сработал недаром,
И, шесть увидав коченеющих дроф,
Я сбил их единым ударом.
Удар-то здоров!
Решил: пригодятся пернатые мне,
Пускай у меня повисят на ремне.
Я двигаюсь дальше, не нужен мне роздых,
Терплю я неслыханный зной.
Но что это, что это, люди, со мной?
Друзья, я лечу, поднимаюсь я в воздух!
То ожили заледеневшие птицы
И подняли в небо меня высоко.
Я вниз посмотрел: далеко-далеко
Мне степи видны, без конца, без границы.
Теперь-то пропавший табун отыщу я,
Всё выше и выше лечу я!
Ужели я в выси заоблачной скроюсь?
На облаке я на мгновенье повис, –
Не выдержал тяжести пояс,
И камнем я падаю вниз.
Подумал: конец! Но спасло меня счастье:
Большой, серой масти,
Вдруг выбежал волк на желтеющий холм,
И я оказался на волке верхом.
Я сел на него, не коснувшись песка,
Коленями волчьи прижал я бока,
Схватился за холку, –
И задал же духу огромному волку!
От страха мой волк задрожал, побежал, –
Не волк, а крылатый скакун-аранзал!
Я мчусь – и касается туч голова,
Я мчусь – и склоняется низко трава,
Я мчусь – и трепещут пески на равнине,
Я мчусь – и пугается рыба в пруду…
Внезапно на стебле полыни,
Что сгнила в прошедшем году,
Свою нахожу я узду,
Глазам я не верю:
Её потерял я три года назад.
Да это же клад!
Пригнулся я ловко, схватил я потерю,
За пазуху спрятал, скачу не грущу.
Я думаю: волка тотчас отпущу,
Как только пропавший табун отыщу.
На волке скакать – удовольствия мало,
Но всё же на свет я рождён калмыком:
Такому, как я, не пристало
Тащиться пешком!
В дорогу, мой серый, в дорогу!
Но что это вдруг зацепилось за ногу?
Да это же плётки моей рукоять.
Два года назад мне её довелось потерять.
Нагнулся, увидев находку,
Хотел я достать свою плётку,
Да не было в этом ни проку, ни толку:
Я наземь слетел,
Лишь вослед поглядел
Стремглав удиравшему волку.
Пришлось мне пешком побрести.
Бреду и бреду по бескрайней равнине, –
Почувствовал голод в пути, –
Мне дрофы мои пригодились бы ныне!
Но вскоре я пищу нашёл без труда:
В кустарниках, что не росли никогда,
Я зайца заметил заснувшего,
Который ещё не родился.
Он грелся под солнышком лета минувшего,
Листом прошлогодней травы он прикрылся,
Вспугнув его криком, пустил за косым я борзую,
Собаку мою дорогую:
Прошло десть лет, как она умерла.
Свирепа и зла,
Косого она догнала,
За спину держа, принесла.
Внезапно так сильно брыкнулся косой,
Что выпали зубы у старой борзой, –
Прошло десять лет, как она умерла!
От зайца умчалась она, как стрела,
Бежала она десять дней, замирая,
Назад оглянуться боялась борзая.
Я сам побежал за добычей стремглав,
Ударил я зайца, его не догнав,
Его не ударив, убил наповал,
Его не убив, я за шиворот взял,
Его я не взял, а в карман положил
И дальше пойти порешил.
Степные просторы кругом широки,
Иду я вперёд
И так дохожу до глубокой реки,
Которую вброд
Воробушки малые переходили
Без всяких усилий.
Увидел я крохотное существо:
Оно, не страшась никого,
Ко мне приближалось, шагая упруго.
Издалека
Узнал я приятеля, лучшего друга –
Старика –
Паука,
Что родом из этой округи.
Назад десять лет, укрываясь от вьюги
(В степи наступила морозов пора),
Я в доме его просидел до утра,
В тепле и уюте болтая
За чашкой калмыцкого чая.
Его сыновья, в гулком мраке степном,
Присматривали за моим табуном.
А ныне паук, мой приятель старинный,
Держал в своих лапах концы паутины,
И это была рыболовная сеть.
Я начал смотреть.
Он вытащил рыбы три полных ведра,
И рядом лежало немало добра:
Я рыбы увидел, наверное, десять возов, –
Прекрасный улов!
- Привет! – я сказал Пауку –
Рыбаку, –
Мой друг, для твоей паутины
Желаю удачной путины!
- И вам, добрый путник, привет мой горячий,
И вам от души я желаю удачи! –
На рыбу кивнув, он такие промолвил слова:
- Рыбёшку помельче возьми, пуда в два,
Сподручнее будет нести.
Счастливого, парень, пути!
Я взял осетра, весом пуда в четыре,
В карман положил и пошёл.
Послышалось мне: что-то рухнуло в мире,
Дрожа, сотрясались и небо и дол.
Смотрю, – забавляясь весёлой игрой,
Боролись гора молодая с горой.
- Задам я тебе! – молодая грохочет.
- Но, чур, без подножки, – вторая хохочет.
И катятся камни у всех на виду,
Хребты низвергаются, весело споря…
Нет, я от забавы такой отойду!
Я вскоре приблизился к берегу моря,
И в страхе отпрянул: меня опалило огнём.
На всём необъятном просторе
Пылало солёное море
И всё, что нашло обиталище в нём.
И радостно в пламени рыбы плясали.
Они восклицали:
- Господь, видно, вспомнил о нас,
Как надо погреемся в жизни хоть раз!
У моря огня я подумал в печали:
- Куда я пойду? Как развею беду?
Пропавший табун я нигде не найду!
Решил я домой воротиться.
Пришёл и развёл я очаг, а меж тем,
Подумал: теперь-то смогу насладиться,
За все эти дни я поем!
Вот в левый карман я полез,
А нет осетра, он исчез!
Вот в правый карман я полез,
А зайца-то нет, он исчез!
Лишь справа, на кромке худого кармана,
Заметил я вдруг таракана.
Хотел он укрыться в разорванный шов,
Метался в тревоге.
Увидел я: заячьи ноги
Торчат у него меж усов.
А слева, на кромке худого кармана,
Заметил я вдруг комара.
Он скрыться хотел, но жужжал неустанно,
Торчал изо рта его хвост осетра.
Я взял таракана за правое ухо,
За левое ухо схватил комара,
И молвил им грозно и глухо:
- Ну, братцы, теперь вы не ждите добра!
Они запищали: - Боимся мы пытки,
Мы больше не будем, ты слабых прости,
На волю ты нас отпусти!
Услышал я шум за порогом кибитки:
Два голоса спорили меж собой:
- Я первым пройду! – говорил кто-то строго.
- Нет, я! – возражал ему голос второй.
Я вышел – и что же увидел с порога?
Увидел я ствол полусгнившего дерева,
Того, что коня моего увело.
Напрасно вздыхало оно тяжело:
Вернулось? Ну что ж, накажу я теперь его!
А рядом – коня моего голова
Какие-то хочет сказать мне слова.
Душила меня справедливая злоба:
- Явились, предатели? Кто из вас нравом гнусней?
- Табун мы нашли! Привели мы коней! –
Воскликнули радостно оба.
Я верным друзьям благодарность принёс.
- Но кто ты? – я дереву задал вопрос.
- Три века назад, – был ответ, –
Когда ещё твой уважаемый дед,
Увы, не родился на свет,
Меня посадил твой отец. Я хотело
За это хорошее дело
Помочь тебе, – вашу ценю я семью.
Теперь ты признательность видишь мою!
Сказало – и сразу же скрылось из глаз.
Нашёл я коней своих снова.
Услышали люди мой честный рассказ,
Где правильно каждое слово,
А если, хотя бы один вы найдёте обман,
Пускай средь жестокой жары попаду я в буран,
Пускай запылаю в речной быстрине,
Пускай утону в океанском огне,
Пусть ветка сандала, ещё не взращённого,
Могилу мою осенит недостойную,
Пусть отпрыск гелюнга, ещё не рождённого
Прочтёт по душе моей заупокойную!» –
Так юноша бедный без всяких прикрас
Закончил свои небылицы.
Поведал он хану неспешный рассказ,
Отцу некрасивой девицы,
Который и дочь посулил степняку,
И треть своего государства,
Но дочь не желая отдать бедняку,
Воскликнул, исполнен коварства:
- Велел я: меня развлеки ты беседой,
Мне семьдесят две небылицы поведай, –
А ты, дурачок, посмотри:
Поведал мне семьдесят три!
Владетельный хан вероломно и грубо
Прогнал, обманул пастуха-правдолюба.
Да, этот пастух, утверждает молва,
Правдивейшим был человеком на свете:
Он сказывал сказки, с весельем даруя слова,
Его уважали и старцы, и дети.
А хан, что прогнал пастуха молодого,
Известен теперь как отъявленный лжец.
Скорее умри, но сдержи своё слово!..
На этом и сказке весёлой конец.