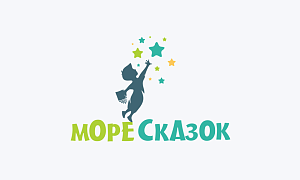Жил да был в подмосковной слободке Микула-санник. Сани мастер гнул. И до того ловко он их выгибал, что сам царь залюбовался. Умел этот царь руки ценить. Потому как он не только на троне сидел. Ковал и тесал. Шил и точил. Понимал, что из одного и того же дерева можно утлые дровни вымучить, а можно и быстрые сани-лебеди смастерить. Лебедей-то и выгибал Микула-санник. За это-то и пригрел его царь-плотник, царь-кузнец и в свои санники произвел.
А у Микулы дочка была, Аксинья. И так-то она была хороша собой, такого редкого выгиба лебедь, что царев хвост ─ Сашка Меншиков ─ себя позабыл. С лица спал. И до того зачастил в слободку, что все поняли, какие он сани задумал у Микулы добыть.
Микула не прочь. Плохо ли с царевым бражником породниться! Да дочка по-своему рассудила. Не хотела она большого ветра. Тихого счастья искала. Не поверила в Сашкину продувную любовь.
Аксинья хоть и простого рода была, а норову на семерых царевен хватило бы. Одна она жила у отца. И воли давал он ей вдосталь. Кремневкой баловалась Аксинья. Охотилась. На коне скакала так, что старые конники дивились. Ну, и на златвенец ─ супружество-замужество ─ свою точку выставляла: «Сама решу, кому отцом моих деток быть». И все. Поворот от ворот Сашке Меншикову.
Только в те годы с царевым дружком шутить нелегко было. Нагрянули ночью сваты. И главный сват ─ царь… И такое-то сватовство началось… Хоть в петлю… Как царю скажешь «нет»? Как его слову перечить станешь?
Совсем было по рукам ударили, да невеста как сквозь землю провалилась. Весь двор обыскали. Нигде нет.
Ищи-свищи, Сашка, свою зореньку ясную. Отгорела она для тебя. Сгасла.
Много ли, мало ли дней прошло… Появился в уральском лесу, в кержачьем скиту, на Кушве-реке, верховой. В алом камзоле. В малиновых штанах. В сафьяновых сапогах. С хорошим ружьем и с девичьей косой.
Пустили опальные кержаки беглую Аксинью в скит. Поселили в избушке-курнушке. В старую веру стали звать. Женишков подсылать.
А у Аксиньи своя вера ─ верный глаз да меткое ружье.
Надо кержакам на своем парне Аксинью поженить. К скиту привязать. А неволить боятся. Ускачет в Тагил. Скит объявит. Обложат тогда кержаков двойной данью. Или того хуже ─ на домны к Демидову припишут. На Высокую гору поставят руду дробить. Молчат скитники.
─ Пускай девка живет как хочет, ─ порешили они, ─ урону от нее нет. А прибытка достаточно.
Да и как не быть ему. По три десятка лосиных туш Аксинья за осень ставила. Не считано козлов. А меху… не износить. Стали кержаки пушное богатство тайным скупщикам переправлять. На хлеб-соль, на утварь менять. Порох добывать.
Перестали донимать Аксинью сватами. Время придет ─ сама в чью-нибудь избу войдет или в свою суженого приворожит. Куда ей деться. От жизни не уйдешь.
И не ушла.
Пришел час. Открылось Аксиньино сердце.
Темен и част был в те старые годы наш синий лес. Люди жили не густо. А встречи бывали.
Как-то Аксинья большого козла выследила. Дух даже замер у нее. Поползла крадучись. Прижалась, как рысь, к земле. Выцелила. И только было хотела выстрелить, как козел сам собой упал и скатился с горушки кубарем.
─ Что за чудо? Не леший ли шутки шутит?
Потом глянула ─ охотник бежит. Манси. С луком. С берестяным колчанишком. В колчане стрелы.
Это он так ловко в козла стрелу всадил. Из-под ружья чужую добычу взял. Хотела было заспорить с ним неуступчивая Аксинья, да он сам ей козла принес. К ногам положил. Положил и заглянул ей в лицо. Заглянул и чуть не ослеп. Как от солнца. Еле проморгался.
И она посмотрела на нерусского охотника. Статным ей чернобровый мансиец показался. Глаза добрые. Карие. Прямо смотрят. Не бегают, как у Сашки Меншикова. Лицом темноват. А в улыбке светел.
Постояли так ─ разошлись. А козел так и остался на траве. Не взяла его Аксинья. Гордость нагнуться не позволила.
Разошлись, стало быть, они, да и все. Зачем они один другому? У каждого свой говор, своя речь, свой обряд. Манси идолам молились. Сами себе из дерева богов вырубали. Дешево и хорошо. Чуть что какой божок провинился ─ на охоте там не подсобил или, скажем, в недугах не помог, ─ расколол его топором да в костер. Вытесал себе нового идола и молись ему, пока не проштрафится.
Так и жили. Ну, да это все ─ мимо. Не для сказки сказывается. Для краски говорится. А в сказке так дело было…
Пришла Аксинья в свою дымную избушку-курнушку да и пожалела, что она даже спасибо статному мансийцу не сказала. Для нее ведь он козла подстрелил. Подарком поднес. Покорно к ее ногам добычу сложил. Поклонился. Как теперь увидишь его, чтобы хоть за вчерашний день за подарок улыбкой приветить. Лес велик… Лес велик, да тропы узки, особенно если один другого встретить хочет…
Встретились ведь! Не узнала Аксинья охотника. Желтый полукафтан на нем. Шапка соболем опушена. Кожаные сапоги. Кремневочка на плече.
Ах!
Опять разошлись. Слова друг дружке не сказали. Без слов поговорили. Глаза-то речистее языка. Особенно если есть им что друг другу сказать.
Все поняла красавица. Не зря он вырядился и волосы русской стрижкой под горшок обрезал. Сама вдруг наряжаться стала.
Не видывали ее в платье, а тут ─ вот тебе и на. Московская одежда. Боярска. У старых кержаков на дне души мыши заскребли. Ну, а когда кокошником Аксинья увенчалась, старые перешептываться начали. И было отчего.
Из всех красот, что есть на земле, женская красота всем красотам венец. Богатыри перед ней никнут. Старики молодеют. Мудрецы ума-разума лишаются. Олухи умнеют. Краснобаи немеют.
Как пошла Аксинья Микулична узкой тропой ─ сосняк расступился. Ели посторонились. Березки навстречу ей выбежали. Цветы ее обступили. Птицы запели.
Солнышко улыбнулось с высоты. Его ведь внучка навстречу счастью идет.
Опять они встретились. Рука об руку пошли. А потом дело так повернулось, что по какой бы тропе Аксинья ни шла, он как из-под земли вырастает…
Едва ли живы те кедры, что слышали про их любовь. Давно уж, наверное, сгорели в кушвинских домнах те старые сосны, которые знали, как она его приголубила. Суженым назвала. На плечо ему голову склонила.
За пять куниц, за семь лисиц, за связку белок, за двух соболей окрестил поп мансийца Степаном. А потом обвенчал их с Аксиньей в церквушке за Турой.
Расплел Степан девичью косу. Две недели они шли домой. В обнимочку да вразвалочку. Под сосной отдохнут, прикорнут в ельничке. Не наглядятся.
Хозяином пришел Степан в свой лес. Весело потекла их жизнь. Кержаки повздыхали да смолкли. Манси тоже прикинулись, что будто бы не заметили, как их коренной сын стал в русской избе жить. Русскую печку топить. Молились себе своим деревянным богам на крутой горе, на старом мольбище, да и все.
Счастливо зажили Степан да Аксинья. Редкий год не прибавлял им сына или дочь. В новом доме на Кушве-реке народилась новая семья. Сыны росли и здоровели. Дочери маковым цветом наливались. Своих коров доили. Свои опушки распахивали.
Полная чаша у Аксиньи Микуличны. Только из памяти не уходит другая жизнь. Московская слобода. Лихие наряды. Заморская утварь. Отцовский взлет. А в лесу жизнь скупа. На два цвета: зимой бело, летом зелено.
А Тагил рядом. Весело дымит. Не одной трубой. Не только чугун из руды плавит, но и большую жизнь из нее выплавляет.
Задумываться стала детная мать. Ее отец на простых санях в каменные палаты въехал. Худо разве ее сынам тоже свои домны задуть? Или за медь взяться?
─ Сокол ты мой, ─ ластится она к мужу, ─ растут у нас сыны, дочери. Света не видят. Что из них станется? Какое наследство мы им оставим? Ружье да коня. Люди не так живут. Подумать надо про детей.
─ Не горюй, ─ говорит Степан, ─ не пропадут наши дети в нужде. Бережется для них богатый клад, только взять его надо с умом.
Сказал так Степан и показал Аксинье железную гору. Куда до нее Высокой горе в Тагиле! Глыбами, скалами, пиками ─ руды из нее торчат. Да какие богатые ─ чуть ли не чистое железо! Неслыханной силы руда!
С ума без малого не свела эта железная гора Аксинью. Только и разговор про нее. Боится охотница, как бы кто другой эту руду не разведал. Бывает ведь так. К слову, те же медвежьи берлоги взять. Заприметит Аксинья берлогу. Отложит охоту на неделю-другую… Придет, а уж она пустая. Другие косолапого взяли.
Так и с горой могло статься. Кому дело до того, что ее Степанов отец нашел. Степану завещал. Хоть и знают об этом все манси, хозяином горы Степана зовут, а распорядиться горой ему не дают. Потому как мольбищем гору сделали. Она всякое железо к себе притягивала. Значит ─ не простая гора. Значит, тайная сила в ней живет. Вот и понаставили там видимо-невидимо идолов. Сосновых, еловых, березовых. Рудяных высекать начали.
Костры жгут. Жертвы приносят. Скачут. Орут. Молятся.
Как их сгонишь оттуда?
─ Царице челом надо ударить, ─ говорит Аксинья. Царя-то уж не было тогда. Помер.
Степан побаивался. Отнекивался.
Но кто когда жену переспоривал? Да еще такую, как Аксинья Микулична.
─ Смотри ты, ─ пугает она, ─ как рудознатцы по всем лесам рыскают. Нюхают, где что лежит. Наткнутся на железную гору, к своим рукам приберут. Кто тебе поверит, что она твоим отцом найдена. Тебе завещана.
Увидал Степан, что правда на стороне жены. Снарядился в Уктус. Объявил там все как есть. Рудяные куски показал. Свое право на гору доказывать стал.
И что тут началось ─ ни пером не опишешь, ни в сказке не перескажешь. Волками поскакали заводские служки. Питерские бароны зашевелились. Камские графья Строгановы лазутчиков выслали. Демидовы лапу над Кушвой занесли.
Заскрипели телеги. Заковыляли колымаги. Зазвенели топоры. Дорогу на Кушву стали рубить. В каретах приехали. Заспорили, чьей горе быть. И Демидовы. И Строгановы. И жадный купец Осокин свою клешню тянет. Норовит свой кусок оттяпать. Свою долю урвать. Все хозяевами оказались. Только Степан с Аксиньей ни при чем. Вчуже.
Шум до небес. Гам до Чукотки. Тут главный командир из Уктуса приехал. Татищев. По-своему рассудил:
─ Мыслимо ли эту гору из гор, сокровище из сокровищ в чьи-то руки, окромя государыниных, отдать?
Приписал железную гору к казне. Да и вся недолга.
─ А мы-то теперь как? ─ спрашивают Степан с Аксиньей.
Тут царев приспешник, уктусский вельможа, озарил их улыбкой да так ответил:
─ Не забудет вас царица-матушка в щедротах и милостях своих!
И не забыла. Горстью медяков Степана вознаградила. Пожизненной кабалой пожаловала беглую Аксинью Микуличну. Рудобоями в гору детей Степановых загнала. Мольбище поразвеяла. Мансийцев поразогнала.
Мансийцы тоже Степана поблагодарили. Большой костер темной ночью на железной горе запалили. Схватили Степана. Да и принесли его в жертву разметанным идолам. Сожгли. Чтобы те людям манси не мстили за гибель мольбища и царское надругание.
Так оно и сбылось. По сей день Степановы внуки-правнуки неделимо берут богатые руды в старой железной горе да передают из рода в род своим детям Степановы мансийские памятки. Черные брови. Карие глаза. Жаркую красоту своей давней прабабки Аксиньи Микуличны…
…Эту быль-небыль про железную гору я от лесного филина слышал. Если что не так ─ спорить не стану. Всякий по-своему из своей руды сказки плавит.
…И в добрый час. Чем больше их, тем жить сподручнее.